История кинзы насчитывает минимум 5000 лет. Её семена нашли в гробнице Тутанхамона, она упоминается в Библии, её выращивали римляне и персы. Но только в XXI веке наука смогла объяснить, почему это древнейшее растение вызывает такую полярную реакцию — и почему ваше отношение к ней, скорее всего, было предопределено ещё до вашего рождения.
Молекула раздора
Кориандр посевной (Coriandrum sativum) — однолетнее растение семейства Зонтичные, родственник моркови, петрушки и укропа. В русском языке зелень называют «кинзой», а семена — «кориандром», хотя это одно растение. Принципиальная разница — в химическом составе: листья содержат альдегиды, которых почти нет в семенах. Именно эти альдегиды создают тот самый спорный аромат.
Ключевые соединения — транс-2-деценаль и транс-2-додеценаль. Для большинства людей они пахнут свежестью, цитрусом, немного травой. Но около 4-14% населения воспринимают эти же молекулы как запах мыла, грязи или раздавленных клопов. Разница не в молекулах — они идентичны. Разница в рецепторах, которые эти молекулы улавливают.
В 2012 году команда генетиков под руководством Николаса Эрикссона провела полногеномный поиск ассоциаций (GWAS) среди 14 604 участников европейского происхождения. Результаты подтвердили на второй выборке из 11 851 человека. Учёные обнаружили однонуклеотидный полиморфизм rs72921001 на хромосоме 11, в кластере генов обонятельных рецепторов. Главный подозреваемый — ген OR6A2, кодирующий рецептор, который специализируется именно на альдегидах.
Носители аллеля С этого полиморфизма значительно чаще сообщали о мыльном привкусе кинзы. Механизм прост: их рецептор OR6A2 сильнее реагирует на транс-2-деценаль, посылая в мозг интенсивный сигнал «мыло». Люди с аллелем А получают тот же сигнал, но слабее — и он теряется на фоне других, более приятных ароматических нот.
География отвращения
Если бы нелюбовь к кинзе распределялась равномерно, это была бы просто генетическая особенность вроде цвета глаз. Но распределение оказалось неравномерным — и именно здесь начинается настоящая интрига. Исследование Университета Торонто 2012 года выявило поразительную закономерность среди 1639 молодых канадцев разного происхождения.
Восточные азиаты (китайцы, японцы, корейцы, вьетнамцы, тайцы) показали самый высокий процент ненавистников — 21%. Европейцы заняли второе место с 17%. Люди африканского происхождения — 14%. Южные азиаты (индийцы, пакистанцы) — 7%. Латиноамериканцы — всего 4%. И наконец, выходцы с Ближнего Востока демонстрируют лишь 3% неприятия — то есть 97% из них кинзу любят.
Парадокс бросается в глаза: культуры, где кинза используется чаще всего, имеют наименьший процент её ненавистников. Мексиканская, индийская, ближневосточная кухни буквально построены на кинзе — и именно представители этих культур реже всего испытывают к ней отвращение. Возникает вопрос: что первично — гены или привычка?
Ответ, вероятно, «и то, и другое». Близнецовые исследования показали наследуемость восприятия запаха кинзы на уровне 52%, а вкуса — 38%. Это значит, что генетика объясняет примерно половину вариации, остальное — среда и опыт. Люди, выросшие в культурах с частым употреблением кинзы, могли адаптироваться к её вкусу даже при наличии «неудачного» генотипа. Либо — и это более интригующая гипотеза — тысячелетия кулинарного отбора постепенно снизили частоту «мыльного» аллеля в популяциях, где кинза была важной частью рациона.
Клопы, мыло и древние греки
Название «кориандр» происходит от греческого «κόρις» (koris) — клоп — и «annon» или «aneson» — анис. Древние греки, не знавшие ни о генах, ни об альдегидах, уловили главное: эта трава пахнет как раздавленное насекомое. Две с половиной тысячи лет спустя химики подтвердили их правоту с точностью до молекулы.
Мраморный клоп (Halyomorpha halys) — тот самый «вонючий жук», который заполонил дома по всему миру — защищается от хищников, выделяя резко пахнущий секрет из желёз на брюшке. Основные компоненты этого секрета — транс-2-деценаль и транс-2-октеналь. Первый — в точности тот же альдегид, что придаёт кинзе её характерный аромат. Когда человек говорит «кинза пахнет клопами», он не преувеличивает и не ошибается. Он констатирует химический факт.
Связь с мылом не менее буквальна. Сапонификация — процесс производства мыла — включает гидролиз жиров в присутствии щёлочи. Побочные продукты этой реакции включают альдегиды, в том числе транс-2-деценаль. Именно они придают мылу его характерный «чистый» запах. Рецептор OR6A2, настроенный на эти молекулы, не различает их источник: кинза, клоп или кусок хозяйственного мыла посылают в мозг один и тот же сигнал. Люди с гиперчувствительным вариантом рецептора получают этот сигнал настолько громко, что он заглушает все остальные ноты.
Специя счастья из царской гробницы
Отношения человечества с кинзой начались задолго до того, как кто-либо задумался о её вкусе. Около полулитра семян кориандра обнаружили в гробнице Тутанхамона, умершего около 1323 года до н.э. Семена были частью погребальных подношений — египтяне верили, что фараону понадобится пища в загробном мире. Упоминания кориандра в египетских папирусах восходят к 1550 году до н.э., а возможно, и к V династии (около 2500 года до н.э.).
Египтяне называли кориандр «специей счастья» — по некоторым данным, из-за его репутации афродизиака. Римский натуралист Плиний Старший в I веке н.э. писал, что лучший кориандр — египетский, и рекомендовал его как противоядие от змеиных укусов. Апиций, автор древнейшей сохранившейся кулинарной книги, включил кориандр примерно в 70 рецептов. Библия сравнивает с семенами кориандра манну небесную: «И нарёк дом Израилев имя ей: манна; она была, как семя кориандра, белая» (Исход 16:31).
Из Средиземноморья кориандр распространился на восток и запад. Китайцы культивируют его с IV века н.э., называя «юань цай» — «ароматный овощ». В Китае верили, что употребление семян с чистым сердцем ведёт к бессмертию. Персы, тайцы, индийцы, мексиканцы включили кинзу в основу своих кулинарных традиций. К XX веку она стала одной из самых распространённых пряных трав в мире — и одной из самых спорных.
Джулия Чайлд бросала её на пол
В 2002 году легендарная американская шеф-повар Джулия Чайлд появилась на шоу Ларри Кинга. Кинг спросил, есть ли продукт, который она никогда не станет есть. «Кинза, — ответила Чайлд. — У неё какой-то мёртвый вкус». На вопрос, что она делает, если кинза попадается в блюде, Чайлд ответила без колебаний: «Я её выковыриваю и бросаю на пол».
Чайлд — не единственная знаменитость в лагере ненавистников. Ина Гартен, ведущая кулинарного шоу «Босоногая графиня», признавалась в интервью журналу Time: «Я просто не подхожу к ней близко». Интернет полон сообществ вроде IHateCilantro.com, где тысячи людей делятся историями о «травме от кинзы» и называют её «дьявольской травой», «мылом сатаны» и «кулинарным преступлением».
Примечательно, что описания ненавистников удивительно последовательны: мыло, грязь, металл, клопы, «мёртвый вкус». Это не случайный набор метафор — это разные способы описать один и тот же сенсорный сигнал, который их рецепторы посылают в мозг. Любители кинзы описывают её столь же последовательно, но совершенно иначе: свежесть, цитрус, лайм, трава, «яркость». Два параллельных мира, две сенсорные реальности, созданные вариацией в одном гене.
Можно ли переучить свои рецепторы
Генетика — не приговор. Исследования показывают, что восприятие кинзы может меняться со временем при регулярном воздействии. Нейробиолог Джей Готтфрид из Северо-Западного университета признался The New York Times, что сам когда-то ненавидел кинзу, но постепенно научился её ценить. Он по-прежнему ощущает мыльные ноты — но теперь они ассоциируются у него с приятным опытом, а не с отвращением.
Существует и чисто химический способ снизить «мыльность». Измельчение листьев активирует фермент альдегид-редуктазу, который расщепляет транс-2-деценаль до менее ароматных соединений. Именно поэтому кинза в песто или соусе чимичурри может быть приемлема даже для тех, кто не выносит её в свежем виде. Тепловая обработка работает по тому же принципу: альдегиды летучи и частично испаряются при нагревании.
Впрочем, для людей с сильно выраженным генетическим вариантом эти ухищрения могут оказаться недостаточными. Некоторые исследователи полагают, что полное «излечение» от нелюбви к кинзе невозможно — можно лишь научиться терпеть её или маскировать другими вкусами. Лайм, чили, чеснок способны перебить мыльные ноты, но не устранить их. Для кого-то это приемлемый компромисс, для кого-то — нет.
Два мира на одной тарелке
История кинзы — это история о том, как генетика создаёт параллельные сенсорные реальности. Мы привыкли думать, что мир един и объективен, что яблоко для всех красное, а сахар — сладкий. Кинза напоминает: наше восприятие — конструкция, собранная из генов, опыта и культуры. Два человека могут смотреть на одну тарелку и видеть — точнее, чувствовать — совершенно разные вещи.
Древние греки назвали её «клоповой травой», и молекулярная химия подтвердила их правоту спустя 2500 лет. Египтяне клали её в гробницы фараонов, а Джулия Чайлд бросала на пол ресторанной кухни. Мексиканцы не мыслят без неё гуакамоле, а 21% восточных азиатов предпочтут остаться голодными. Всё это — об одном растении, об одной молекуле, об одном гене.
В следующий раз, когда кто-то скажет вам, что кинза отвратительна, не спорьте. Для этого человека она действительно отвратительна — так же объективно, как для вас она свежа и ароматна. Вы оба правы. Вы просто живёте в разных сенсорных вселенных, и ни одна из них не лучше другой.
Источник:
- 16 странных фактов о еде
- Какие промышленные консервы делали в царской России?
- 10 самых полезных видов орехов в мире
- "Самая смертоносная еда в мире" убивает более 200 человек в год, но её всё равно едят 500 миллионов
- 13 блюд и десертов, которые носят имена реально существовавших людей








































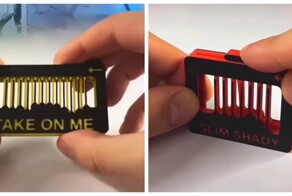










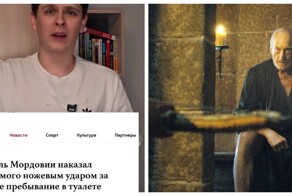
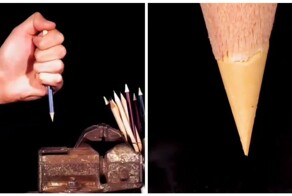



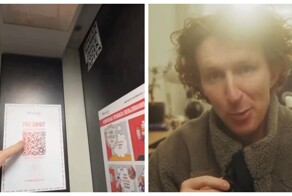
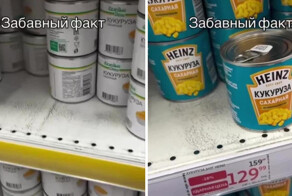












































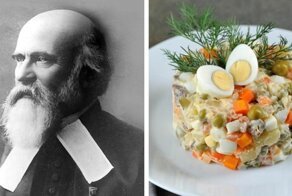

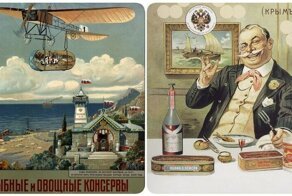

А я с удовольствием кинзу лопаю. И семена при готовке добавляю, вперемешку с зирой, барбарисом и сафлором. И зелень люблю в готовое блюдо покрошить.
Другие сочетания не приемлю.
Тут как гречка, ну нет в крови/днк какого то специального механизма ненависти к гречке. Просто те кто её не ел с детства не ест и взрослым.
Меня всегда тошнило от майонеза европейского, не понимал как это дерьмо можно есть.