9790
16
«Воинская служба в рядах вооруженных Сил СССР – почетная обязанность советских граждан.» (Конституция СССР.)
Продолжение очерка "Почетная обязанность"...
Продолжение очерка "Почетная обязанность"...
Посылки
Помимо масла и личного времени, в число армейских радостей входили посылки и письма.
Посылка из дома… Это настоящий праздник! Курево, печенье, пряники, конфеты и прочие съедобные радости жизни. Еще посылки являлись частичкой дома, что было важнее всего. Посылки доходили до нас открытыми: содержимое проверялось на наличие алкоголя, порнографии и прочего запрещенного уставом.
Конечно, большинство содержимого раздавалось сослуживцам. Но так поступало большинство; это было негласным правилом. А тем, кто эти правила не соблюдал (имелись и такие) и в однеху хавал по ночам под одеялом содержимое посылок, громогласно объявлялось «всеобщее презрение». С ними не здоровались, не разговаривали, ни в чем не помогали, словом, не видели в упор. Тяжко служить, когда к тебе такое отношение со стороны сослуживцев...
Случалось всякое...
Еще более тяжко было служить тем, кто сильно себя жалел. Выдержать такую нагрузку, какая предлагалась в «учебке», было под силу не каждому. Особенно тем, кого на «гражданке» родители и прочее окружение носили на руках.
В соседней батарее был парень из Питера. Молчаливый, замкнутый. На второй месяц «учебки» он как-то ночью вышел в туалет, составил из табуреток пирамиду, залез на нее и кинулся вниз головой на кафельный пол сортира (потолки в батарее были высоченные). Раскроить череп с первого раза не удалось, и он с недоразбитой башкой полез на табуретки снова, чтобы повторить трюк разбивания черепа, однако был остановлен прибежавшим на шум дневальным. Был вызван командир батареи, врач, незадачливого самоубийцу отвезли в санчасть, после чего без какой-либо огласки он был комиссован из армии. Вполне возможно, что именно на этом и строился расчет парня.
Были и побеги. На моей памяти один. Искали его всей дивизией: нарядов в патруль было немерено. Попал и я. Нас вывезли в город, который оказался весьма небольшим, и мы ходили по улицам, высматривая беглеца.
Поймали его на вокзале: сняли прямо с поезда. И отвезли на гауптвахту – заведение, о котором в части ходили зловещие слухи и что было пугалом почище «учебки». Главным садюгой, натурально измывающимся над провинившимися, там был сержант с хохляцкой фамилией, оканчивающейся на «о». Попасть в его лапы считалось самой страшной бедой в жизни. Позже я познакомлюсь с этим сержантом...
А того беглеца я видел. Он сидел на «губе» в железной клетке-камере, ходил из угла в угол, никого не замечал и был похож на загнанного зверька. Я тогда поймал себя на мысли, что он словно из другого мира, которого я не знаю. Когда я вблизи увижу настоящих иностранцев, ко мне опять придет подобное чувство. Но это будет много позже…
Помимо масла и личного времени, в число армейских радостей входили посылки и письма.
Посылка из дома… Это настоящий праздник! Курево, печенье, пряники, конфеты и прочие съедобные радости жизни. Еще посылки являлись частичкой дома, что было важнее всего. Посылки доходили до нас открытыми: содержимое проверялось на наличие алкоголя, порнографии и прочего запрещенного уставом.
Конечно, большинство содержимого раздавалось сослуживцам. Но так поступало большинство; это было негласным правилом. А тем, кто эти правила не соблюдал (имелись и такие) и в однеху хавал по ночам под одеялом содержимое посылок, громогласно объявлялось «всеобщее презрение». С ними не здоровались, не разговаривали, ни в чем не помогали, словом, не видели в упор. Тяжко служить, когда к тебе такое отношение со стороны сослуживцев...
Случалось всякое...
Еще более тяжко было служить тем, кто сильно себя жалел. Выдержать такую нагрузку, какая предлагалась в «учебке», было под силу не каждому. Особенно тем, кого на «гражданке» родители и прочее окружение носили на руках.
В соседней батарее был парень из Питера. Молчаливый, замкнутый. На второй месяц «учебки» он как-то ночью вышел в туалет, составил из табуреток пирамиду, залез на нее и кинулся вниз головой на кафельный пол сортира (потолки в батарее были высоченные). Раскроить череп с первого раза не удалось, и он с недоразбитой башкой полез на табуретки снова, чтобы повторить трюк разбивания черепа, однако был остановлен прибежавшим на шум дневальным. Был вызван командир батареи, врач, незадачливого самоубийцу отвезли в санчасть, после чего без какой-либо огласки он был комиссован из армии. Вполне возможно, что именно на этом и строился расчет парня.
Были и побеги. На моей памяти один. Искали его всей дивизией: нарядов в патруль было немерено. Попал и я. Нас вывезли в город, который оказался весьма небольшим, и мы ходили по улицам, высматривая беглеца.
Поймали его на вокзале: сняли прямо с поезда. И отвезли на гауптвахту – заведение, о котором в части ходили зловещие слухи и что было пугалом почище «учебки». Главным садюгой, натурально измывающимся над провинившимися, там был сержант с хохляцкой фамилией, оканчивающейся на «о». Попасть в его лапы считалось самой страшной бедой в жизни. Позже я познакомлюсь с этим сержантом...
А того беглеца я видел. Он сидел на «губе» в железной клетке-камере, ходил из угла в угол, никого не замечал и был похож на загнанного зверька. Я тогда поймал себя на мысли, что он словно из другого мира, которого я не знаю. Когда я вблизи увижу настоящих иностранцев, ко мне опять придет подобное чувство. Но это будет много позже…
×
Письма
Главной отдушиной и еще одним праздником для солдата были письма. В определенный день назначенный почтальоном солдат в сопровождении сержанта ходил на почту в город с рюкзаком, поскольку писем было много. Писали солдатам из дома, писали девушки, писали друзья, многие из которых тоже служили.
Большая часть из нас по получению писем их сразу не читали: оставляли на личное время перед сном, чтобы почитать спокойно, растягивая удовольствие. Письма были как десерт, который лучше смаковать, откусывая маленькими кусочками, нежели проглотить разом, получив всего-то минутное наслаждение.
Странное дело, но по дому я не скучал. И по Ольке я скучал не особо. Распорядок дня в ШМС не оставлял времени на то, чтобы скучать, поскольку в сутках часто не имелось даже десяти свободных минут. А ответы солдат на письма писались либо в личное время перед сном, либо ночью в наряде, когда вся казарма спала.
Время в «учебке» пролетело махом, а это почти полгода. Мы сдали нормативы на прием сигналов и работу на ключе и уже официально сделались «специалистами 3-го класса» с присвоением права носить специальный нагрудный знак с циферкой «3» посередине. Носить его полагалось на правой стороне груди рядом с гвардейским знаком. На левой стороне груди носился в обязательном порядке комсомольский значок.
А еще мне присвоили звание младшего сержанта. Единственному из батареи, поскольку я лучше других стучал на ключе и принимал в минуту столько групп знаков, сколько полагалось принимать специалисту 2-го класса.
Я тотчас нашил поперек погон по паре желтых лычек, и ко мне стали обращаться на «вы» уже не только мои командиры, но и мои товарищи по батарее. В армии официальное обращение военнослужащих друг к другу только на «вы»...
А еще я почувствовал отчуждение. И зависть. Ведь все остались рядовыми, а я стал младшим сержантом. То есть начальником для рядовых. А начальники и подчиненные – люди из разных миров.
А потом всех батарейцев раскидали по полкам. Меня оставили в батарее, временно прикомандировав к одному из полков дивизии. На то, что мне придется жить вне батареи, я не рассчитывал…
Главной отдушиной и еще одним праздником для солдата были письма. В определенный день назначенный почтальоном солдат в сопровождении сержанта ходил на почту в город с рюкзаком, поскольку писем было много. Писали солдатам из дома, писали девушки, писали друзья, многие из которых тоже служили.
Большая часть из нас по получению писем их сразу не читали: оставляли на личное время перед сном, чтобы почитать спокойно, растягивая удовольствие. Письма были как десерт, который лучше смаковать, откусывая маленькими кусочками, нежели проглотить разом, получив всего-то минутное наслаждение.
Странное дело, но по дому я не скучал. И по Ольке я скучал не особо. Распорядок дня в ШМС не оставлял времени на то, чтобы скучать, поскольку в сутках часто не имелось даже десяти свободных минут. А ответы солдат на письма писались либо в личное время перед сном, либо ночью в наряде, когда вся казарма спала.
Время в «учебке» пролетело махом, а это почти полгода. Мы сдали нормативы на прием сигналов и работу на ключе и уже официально сделались «специалистами 3-го класса» с присвоением права носить специальный нагрудный знак с циферкой «3» посередине. Носить его полагалось на правой стороне груди рядом с гвардейским знаком. На левой стороне груди носился в обязательном порядке комсомольский значок.
А еще мне присвоили звание младшего сержанта. Единственному из батареи, поскольку я лучше других стучал на ключе и принимал в минуту столько групп знаков, сколько полагалось принимать специалисту 2-го класса.
Я тотчас нашил поперек погон по паре желтых лычек, и ко мне стали обращаться на «вы» уже не только мои командиры, но и мои товарищи по батарее. В армии официальное обращение военнослужащих друг к другу только на «вы»...
А еще я почувствовал отчуждение. И зависть. Ведь все остались рядовыми, а я стал младшим сержантом. То есть начальником для рядовых. А начальники и подчиненные – люди из разных миров.
А потом всех батарейцев раскидали по полкам. Меня оставили в батарее, временно прикомандировав к одному из полков дивизии. На то, что мне придется жить вне батареи, я не рассчитывал…
Почетная обязанность, часть 4-я. В полку
Когда я пришел в полк, то как «салабон» получил койко-место почти у самого входа в казарму. Через минуту моего появления в полку ко мне подошел «дед» и отобрал у меня парадный китель, дав мне взамен свой, на размер больше.
– Когда станешь дедом, сделаешь то же самое, – философски изрек он.
В полку молодым и зеленым было положено пахать. И на второй день моего пребывания в полку меня поставили в наряд дежурным по роте (в полку были уже не батареи, а роты). В дневальные ко мне попали два «черпака», которые попеременно стояли на тумбочке, но все прочие свои обязанности выполняли неохотно и огрызаясь, поскольку я был младше призывом.
После отбоя ко мне обратился один из «дедов»:
– Утром просыпаюсь: мой подворотничок подшит, сапоги вычищены, – изрек он в приказном тоне. – Понял, салабон?
Соглашаться было нельзя. Иначе все время до самого дня дембеля пришлось бы потом подшивать ему подворотнички. А может, и не ему одному. Были такие солдаты в полку: обслуживали конкретного «деда», а то и несколько «дедов». Если бы «дед» даже попросил по-человечески, сказал бы как-нибудь иначе, например: «Слушай, младшой, ночью тебе все равно делать будет нехрен, так сделай доброе дело: подшей подворотничок и почисти сапоги», то я бы отказался. Но попытался бы объяснить причину. Дескать, не могу потому, что я – младший сержант, и мне не в масть подшивать чужие подворотнички и чистить сапоги. Иначе, мол, меня рядовые слушаться не будут. В том числе и моего призыва. Но высказанное «дедом» было настолько безапелляционным, что я ответил категорически и без каких-либо объяснений:
– Когда станешь дедом, сделаешь то же самое, – философски изрек он.
В полку молодым и зеленым было положено пахать. И на второй день моего пребывания в полку меня поставили в наряд дежурным по роте (в полку были уже не батареи, а роты). В дневальные ко мне попали два «черпака», которые попеременно стояли на тумбочке, но все прочие свои обязанности выполняли неохотно и огрызаясь, поскольку я был младше призывом.
После отбоя ко мне обратился один из «дедов»:
– Утром просыпаюсь: мой подворотничок подшит, сапоги вычищены, – изрек он в приказном тоне. – Понял, салабон?
Соглашаться было нельзя. Иначе все время до самого дня дембеля пришлось бы потом подшивать ему подворотнички. А может, и не ему одному. Были такие солдаты в полку: обслуживали конкретного «деда», а то и несколько «дедов». Если бы «дед» даже попросил по-человечески, сказал бы как-нибудь иначе, например: «Слушай, младшой, ночью тебе все равно делать будет нехрен, так сделай доброе дело: подшей подворотничок и почисти сапоги», то я бы отказался. Но попытался бы объяснить причину. Дескать, не могу потому, что я – младший сержант, и мне не в масть подшивать чужие подворотнички и чистить сапоги. Иначе, мол, меня рядовые слушаться не будут. В том числе и моего призыва. Но высказанное «дедом» было настолько безапелляционным, что я ответил категорически и без каких-либо объяснений:
– Нет.
– Ну, смотри, – спокойно сказал «дед», внимательно посмотрев на меня. – Как бы потом не пожалеть...
После дежурства по роте можно было ложиться спать в девять вечера, не дожидаясь общего «отбоя». Я и лег. А в одиннадцать меня разбудили...
– Пошли, – сахарно произнес «дед», что накануне приказывал мне подшить его подворотничок и почистить сапоги. За ним маячили, недобро улыбаясь, еще двое «дедов».
Меня повели в сортир. Я понял, что ведут бить. Так и случилось. Я только закрывался от ударов, но мне хорошо попало пару раз в челюсть, по разу в шею и под дых. Шея наутро вспухла...
Чрез день меня снова поставили в наряд. И снова повторилась та же картина: приказание «деда» — мой отказ — «проводы» в сортир...
На сей раз «деды» были не в тапках, а в сапогах. После нескольких ударов меня повалили и стали пинать. Крепко досталось по спине и кобчику: он у меня долго потом болел, и ноги плохо слушались, а на спине и по сей день видны шрамы от сапог.
Так я еще раза два-три отказывался и получал по полной программе. Потом «деды» меня попросту перестали замечать. Иногда привязывались «черпаки», но эти наезды были, скорее, для проформы и самоутверждения, нежели желанием принудить меня что-либо сделать для них.
Начальник учебного класса
В одном мне несказанно повезло: мало того, что после окончания «учебки» я получил младшого и был оставлен в ШМС в качестве инструктора (прикомандирование к полку было временным), так меня еще назначили на должность «прапорщика НУК»! То есть я получил с записью в военный билет прапорскую должность «Начальник учебного класса» с «окладом» уже не 3.80 руб., а 10.80 (или даже 13.80 – не помню точно). С таким месячным жалованьем в армии уже можно было жить вполне сносно.
До меня начальником учебного класса был сержант из Погара. Он один раз показал мне, как включать/выключать аппаратуру, как менять скорость сигналов и создавать помехи для приема. Потом под роспись сдал мне ключи от класса с печатью. И все. До всего остального я доходил сам. Да, еще он показал мне тайничок, где лежали катушки с записями ведущих западных групп.
– Ну, смотри, – спокойно сказал «дед», внимательно посмотрев на меня. – Как бы потом не пожалеть...
После дежурства по роте можно было ложиться спать в девять вечера, не дожидаясь общего «отбоя». Я и лег. А в одиннадцать меня разбудили...
– Пошли, – сахарно произнес «дед», что накануне приказывал мне подшить его подворотничок и почистить сапоги. За ним маячили, недобро улыбаясь, еще двое «дедов».
Меня повели в сортир. Я понял, что ведут бить. Так и случилось. Я только закрывался от ударов, но мне хорошо попало пару раз в челюсть, по разу в шею и под дых. Шея наутро вспухла...
Чрез день меня снова поставили в наряд. И снова повторилась та же картина: приказание «деда» — мой отказ — «проводы» в сортир...
На сей раз «деды» были не в тапках, а в сапогах. После нескольких ударов меня повалили и стали пинать. Крепко досталось по спине и кобчику: он у меня долго потом болел, и ноги плохо слушались, а на спине и по сей день видны шрамы от сапог.
Так я еще раза два-три отказывался и получал по полной программе. Потом «деды» меня попросту перестали замечать. Иногда привязывались «черпаки», но эти наезды были, скорее, для проформы и самоутверждения, нежели желанием принудить меня что-либо сделать для них.
Начальник учебного класса
В одном мне несказанно повезло: мало того, что после окончания «учебки» я получил младшого и был оставлен в ШМС в качестве инструктора (прикомандирование к полку было временным), так меня еще назначили на должность «прапорщика НУК»! То есть я получил с записью в военный билет прапорскую должность «Начальник учебного класса» с «окладом» уже не 3.80 руб., а 10.80 (или даже 13.80 – не помню точно). С таким месячным жалованьем в армии уже можно было жить вполне сносно.
До меня начальником учебного класса был сержант из Погара. Он один раз показал мне, как включать/выключать аппаратуру, как менять скорость сигналов и создавать помехи для приема. Потом под роспись сдал мне ключи от класса с печатью. И все. До всего остального я доходил сам. Да, еще он показал мне тайничок, где лежали катушки с записями ведущих западных групп.
Что представлял собой учебный класс? Это оборудованное помещение, куда приводились на занятия те специалисты из полков дивизии, которые не были задействованы на боевом дежурстве (БД). Через неделю они сменялись и уезжали на БД.
Классов в специальном двухэтажном здании было несколько. В моем классе занимались связисты. Всех призывов. В классе стояло три ряда столов с ключами и головными телефонами. Наушниками их называть было нельзя. И команда на прием была такая:
– Надеть головные телефоны!
Для каждого воина на столе – свой ключ и головной телефон. У меня – стол-пульт, где я могу давать порядно или каждому отдельно индивидуальное задание на прием или передачу сигналов. В стол были вмонтированы две магнитофонные приставки «Нота». Отдельно от стола стоял еще какой-то ламповый магнитофон типа «Днепр», соединенный со столом кабелем. Лафа для меломана! И если учесть, что связисты были с музыкальным слухом, а некоторые из них играли в разных «ВИА», как, например, паренек из челябинского ВИА «Ариэль» или служивший вместе со мной в «учебке» парень, игравший в ансамбле «Червона рута» вместе с Софией Ротару, то можете себе представить, какой набор записей хранился у меня в классе.
Помимо записей, оставленных моим предшественником, парни, что занимались у меня в классе, приносили послушать пленки, присланные из дома. И оставляли у меня, поскольку слушать больше было негде. Именно в армии я познакомился с такими группами, как «Юрай хип», «Гранд фанк» и, конечно, «Пинк флойд», который люблю до сих пор. Но приоритетными для меня все же являются «Битлы» и «Перпл», которыми я заразился еще в техникуме...
Классов в специальном двухэтажном здании было несколько. В моем классе занимались связисты. Всех призывов. В классе стояло три ряда столов с ключами и головными телефонами. Наушниками их называть было нельзя. И команда на прием была такая:
– Надеть головные телефоны!
Для каждого воина на столе – свой ключ и головной телефон. У меня – стол-пульт, где я могу давать порядно или каждому отдельно индивидуальное задание на прием или передачу сигналов. В стол были вмонтированы две магнитофонные приставки «Нота». Отдельно от стола стоял еще какой-то ламповый магнитофон типа «Днепр», соединенный со столом кабелем. Лафа для меломана! И если учесть, что связисты были с музыкальным слухом, а некоторые из них играли в разных «ВИА», как, например, паренек из челябинского ВИА «Ариэль» или служивший вместе со мной в «учебке» парень, игравший в ансамбле «Червона рута» вместе с Софией Ротару, то можете себе представить, какой набор записей хранился у меня в классе.
Помимо записей, оставленных моим предшественником, парни, что занимались у меня в классе, приносили послушать пленки, присланные из дома. И оставляли у меня, поскольку слушать больше было негде. Именно в армии я познакомился с такими группами, как «Юрай хип», «Гранд фанк» и, конечно, «Пинк флойд», который люблю до сих пор. Но приоритетными для меня все же являются «Битлы» и «Перпл», которыми я заразился еще в техникуме...
Шабашники-знаменитости
Кстати, еще когда я был в ШМС, к нам с концертом приезжала София Ротару с «Червоной рутой». Она выступала в клубе части, огромном, похожем на театр. На ее концерт я не попал, но Ротару 1974 года видел. Она приходила в нашу батарею проведать того самого паренька, о котором я упоминал. Была она очень худа, прямо светилась насквозь, и мы всей батареей жалели ее и сокрушались по поводу такой худобы.
Когда я служил в полку, приезжала «Машина времени», где кроме Макаревича не было ни одного из классического состава «Машины». Они явно халтурили, включая «Макара».
Приезжало много разных ВИА, ведь Бологое «это где-то между Ленинградом и Москвой». Артисты, гастролирующие из Москвы в Питер и обратно, часто останавливались у нас, чтобы подшабашить за небольшую, но не лишнюю деньгу.
Приезжал Валерий Ободзинский. Работал он с полной отдачей, и его долго не хотел отпускать со сцены начальник клуба нашей в/ч. И по сей день при желании я могу воспроизвести в голове его незабываемый голос...
Вно-овь, вно-о-овь золото манит на-ас.
Вно-овь, вно-о-овь золото, как всегда обманет на-ас...
Кстати, еще когда я был в ШМС, к нам с концертом приезжала София Ротару с «Червоной рутой». Она выступала в клубе части, огромном, похожем на театр. На ее концерт я не попал, но Ротару 1974 года видел. Она приходила в нашу батарею проведать того самого паренька, о котором я упоминал. Была она очень худа, прямо светилась насквозь, и мы всей батареей жалели ее и сокрушались по поводу такой худобы.
Когда я служил в полку, приезжала «Машина времени», где кроме Макаревича не было ни одного из классического состава «Машины». Они явно халтурили, включая «Макара».
Приезжало много разных ВИА, ведь Бологое «это где-то между Ленинградом и Москвой». Артисты, гастролирующие из Москвы в Питер и обратно, часто останавливались у нас, чтобы подшабашить за небольшую, но не лишнюю деньгу.
Приезжал Валерий Ободзинский. Работал он с полной отдачей, и его долго не хотел отпускать со сцены начальник клуба нашей в/ч. И по сей день при желании я могу воспроизвести в голове его незабываемый голос...
Вно-овь, вно-о-овь золото манит на-ас.
Вно-овь, вно-о-овь золото, как всегда обманет на-ас...
В классе
На первом ряду в классе сидели «салабоны», выпущенные из «учебки». Многие из них мне были знакомы. На втором ряду – «черпаки». «Деды» естественно, сидели на последнем. В классе они меня слушались, команды все выполняли, но иногда просили включить «музнячок». И я включал им по их желанию «Битлов», «Перпл», «Цеппелинов» или «Блэк саббат». Конечно, если в классе не присутствовал офицер. Остальные, включая «черпаков», занимались по программе.
Дисциплина была железная. «Салабоны» все были как шелковые. «Черпаки» тоже. Если все же кто-то из них начинал бузить (явление крайне редкое) – с таким я сразу справлялся. Если начинали «возникать» несколько «черпаков», их мгновенно осаживали «деды», что сидели сзади.
Офицеры вели теоретические занятия. Я – практические. Пересекались мы редко. Иногда в мой класс заглядывал с проверкой начальник связи дивизии в звании майора. Хороший мужик. Позже мы с ним даже почти подружились, и он приходил ко мне слушать и переписывать музыкальные новинки и блатные песенки молодого Утесова, записи которого у меня тоже имелись.
Пару раз в мой класс во время часов уборки или техобслуживания – а это было два повода, чтобы уйти из полка в свой класс в неурочные часы – наведывалась послушать музыку дочка то ли начальника штаба дивизии, то ли заместителя комдива. Она явно скучала. И, похоже, не была бы против полежать со мной. Но я касательно нее был предупрежден: ни в коем случае с ней не связываться, иначе все узнает ее папашка, причем дочка сама все ему и расскажет, расписав так, как ей будет выгодно и удобно. После чего мне, естественно, не поздоровится, и я в лучшем случае до конца службы не вылезу из гауптвахты. Потому я был предупредителен и вежлив, не более. И она больше не появлялась...
А служба шла своим чередом, и не за горами был уже новый, 1975-й год...
На первом ряду в классе сидели «салабоны», выпущенные из «учебки». Многие из них мне были знакомы. На втором ряду – «черпаки». «Деды» естественно, сидели на последнем. В классе они меня слушались, команды все выполняли, но иногда просили включить «музнячок». И я включал им по их желанию «Битлов», «Перпл», «Цеппелинов» или «Блэк саббат». Конечно, если в классе не присутствовал офицер. Остальные, включая «черпаков», занимались по программе.
Дисциплина была железная. «Салабоны» все были как шелковые. «Черпаки» тоже. Если все же кто-то из них начинал бузить (явление крайне редкое) – с таким я сразу справлялся. Если начинали «возникать» несколько «черпаков», их мгновенно осаживали «деды», что сидели сзади.
Офицеры вели теоретические занятия. Я – практические. Пересекались мы редко. Иногда в мой класс заглядывал с проверкой начальник связи дивизии в звании майора. Хороший мужик. Позже мы с ним даже почти подружились, и он приходил ко мне слушать и переписывать музыкальные новинки и блатные песенки молодого Утесова, записи которого у меня тоже имелись.
Пару раз в мой класс во время часов уборки или техобслуживания – а это было два повода, чтобы уйти из полка в свой класс в неурочные часы – наведывалась послушать музыку дочка то ли начальника штаба дивизии, то ли заместителя комдива. Она явно скучала. И, похоже, не была бы против полежать со мной. Но я касательно нее был предупрежден: ни в коем случае с ней не связываться, иначе все узнает ее папашка, причем дочка сама все ему и расскажет, расписав так, как ей будет выгодно и удобно. После чего мне, естественно, не поздоровится, и я в лучшем случае до конца службы не вылезу из гауптвахты. Потому я был предупредителен и вежлив, не более. И она больше не появлялась...
А служба шла своим чередом, и не за горами был уже новый, 1975-й год...
Почетная обязанность, часть 5-я. Зима и весна 1975-го
В полку служить было вольнее, нежели в «учебке». К тому же в полку я был чужой, а когда от меня отстали «деды», на меня вообще мало кто обращал внимание. Если бы не наряды по два-три раза на неделе, жить было бы можно вполне сносно.
Так получилось, что я сошелся с одним парнем из Перми. Он был на полгода старше меня призывом, и у него за плечами тоже был техникум. И его, как и меня, не тяготило одиночество. Он часто что-то писал в школьную тетрадь, никого не замечая. Как-то я его спросил, чего он там пишет. И он ответил:
– Заметки в газету.
После чего показал мне несколько вырезок с его публикациями.
– Вот эта стоит три рубля, – указал пермяк на заметку поменьше. – А эта эту я получил пять, – ткнул он пальцем в более крупную заметку.
Три рубля! Почти месячное солдатское жалованье! А если пять рублей? А если писать несколько заметок в месяц? Скажем, пять! Это же какой будет прибавок! Я решил не размениваться на разные там заметки и написал сразу очерк. Про то, кто и как из знакомых мне воинов использует личное время. И послал письмом в нашу газету «На страже Родины» (если не путаю). Но публикации не было и не было. И как только я перестал ждать, ко мне подошел пермяк:
– Тебя опубликовали. Поздравляю.
Я вырвал у него из рук газету. Точно! Мой очерк, крепко сокращенный, был опубликован! Это случилось в 1975-м.
Так получилось, что я сошелся с одним парнем из Перми. Он был на полгода старше меня призывом, и у него за плечами тоже был техникум. И его, как и меня, не тяготило одиночество. Он часто что-то писал в школьную тетрадь, никого не замечая. Как-то я его спросил, чего он там пишет. И он ответил:
– Заметки в газету.
После чего показал мне несколько вырезок с его публикациями.
– Вот эта стоит три рубля, – указал пермяк на заметку поменьше. – А эта эту я получил пять, – ткнул он пальцем в более крупную заметку.
Три рубля! Почти месячное солдатское жалованье! А если пять рублей? А если писать несколько заметок в месяц? Скажем, пять! Это же какой будет прибавок! Я решил не размениваться на разные там заметки и написал сразу очерк. Про то, кто и как из знакомых мне воинов использует личное время. И послал письмом в нашу газету «На страже Родины» (если не путаю). Но публикации не было и не было. И как только я перестал ждать, ко мне подошел пермяк:
– Тебя опубликовали. Поздравляю.
Я вырвал у него из рук газету. Точно! Мой очерк, крепко сокращенный, был опубликован! Это случилось в 1975-м.
Внештатный корреспондент, или Золотое дно
За очерк мне начислили пять рублей. Причем деньги надлежало получать самолично. То есть, выходить за расположение части на почту вместе с почтальоном. Так я заимел возможность выхода в город. Что тоже есть для солдата маленький, но праздник.
Я писал в газету очерк за очерком, заметку за заметкой. После второй публикации рядом с моей подписью появилась приставка: «внештатный корреспондент». Скоро по количеству публикаций я обошел пермяка, который своим примером подвиг меня на такую прибыльную деятельность. Трояки и пятерки складывались в приличные для солдата суммы. Вот оно, золотое дно! Теперь ночью в наряде я строчил очерки и заметки из солдатской жизни, забывая писать письма...
Кажется, после второй публикации меня вызвал замполит. Он был приветлив и все выспрашивал меня про службу, быт, взаимоотношения между солдатами и тому подобное. Это меня насторожило. И я решил сработать под дурачка, что у меня неплохо получалось на «гражданке», когда приходилось сталкиваться с милицией. Двор у нас был шебутной, перед поступлением в техникум восьмилетку я заканчивал в классе «Г» с такими пацанами, что поневоле набрался от них всякого-разного, ну и сказывалось отсутствие отца, умершего, когда мне было 14 лет. Минут сорок я изводил замполита своими бодрыми и громогласными «не могу знать», «виноват», «так точно» и «есть» с верноподданническим отданием чести и поеданием его глазами. Наконец, замполит устал от дурака. Ей богу, у него осталось после меня впечатление, что я так и не понял, что меня вербуют в стукача. Когда из этой затеи ничего не вышло, он устало произнес:
– Вы пишете заметки в газету...
– Так точно! – проорал я.
– Перед тем, как отослать их в газету, вы должны показывать их мне...
– Есть! – гаркнул я.
– Идите, – уныло посмотрел на меня замполит.
– Есть! – четко, как учили, отдал я честь и строевым шагом с правильной отмашкой рук вышел из кабинета.
Когда я пришел в полк, пермяк спросил:
– Вербовал?
– Ага, – ответил я.
– И что?
– Ничего, – сказал я.
– Меня он тоже вербовал...
– И что? – спросил я.
– Тоже ничего, – усмехнулся пермяк.
Я продолжал строчить в газету, игнорируя приказание замполита. Он снова вызвал меня и строго спросил:
– Я вам приказывал перед тем, как отсылать ваши заметки в газету, показывать их мне?
– Так точно! – ответил я.
– Почему вы не выполняете приказ?
– Виноват, товарищ майор!
– Впредь вы будете приносить заметки сначала мне, вы поняли?
– Так точно! – я решительно сдвинул брови и выдвинул вперед нижнюю челюсть, все видом показывая, что я расшибусь, но исполню приказ майора.
Замполит кисло посмотрел на меня и приказал:
– Идите...
– Есть! – ответил я и, чеканя шаг, вышел из кабинета.
Заметки я писал то ли до весны, то ли до лета 1975-го. И ни одной так и не принес замполиту. Потом, когда меня вернули в ШМС, увлечение это прошло. Как я теперь понимаю, я наигрался в эту игру. Привычка бросать какое-либо занятие, изучив его, достигнув определенных высот и поэтому (скорее всего) потеряв к нему интерес, будет сопровождать меня всю жизнь. Это, наверное, хорошо, поскольку браться за что-то новое всегда интересно и полезно. И видимо, это плохо, ибо будь я умней и практичней, то став ассом в конкретном деле, можно было бы потом спокойно пожинать плоды и почивать на лаврах. Не особо затрачивая себя...
Как я едва не замерз до смерти
Зима 1975-го была холоднущей. Я успевал замерзнуть, когда только шел через плац от расположения полка в свой класс. Или когда нас вели в столовую. Не спасали теплые портянки и подштанники с рубахой. Шинель защищала от ветра, но не грела. А уши у шапки можно было опускать только в карауле или по приказу. Это у «дедов» под гимнастеркой был надет теплый свитер, а под портянками были шерстяные носки. «Салабонам» и «черпакам» ни свитеров, ни носков было не положено.
Как-то в феврале, когда одна половина полка поехала менять вторую половину на боевом дежурстве, и в казарме практически никого не осталось, меня и загребли. Мне бы слинять пораньше в свой класс, и тогда ничего бы не случилось, но что-то задержало меня в казарме, и я попал на глаза ротному.
– Вот кого мы пошлем сопровождать обед!
– Мне надо в класс, – я попытался, было, сопротивляться, но ротный напомнил мне, что я, хоть и прикомандированный, но подчиняюсь по внутреннему распорядку ротному начальству.
Делать нечего: приказ. Я надел шинель, шапку и отправился на кухню, где в «зилок» уже грузили 40-литровые бидоны с обедом. Везти его нужно было для ребят, что сдавали и принимали боевое дежурство. Сели. Поехали. Выехали из расположения части. Кругом лес, красота. Заиндевелые деревья, словно в сказке про Морозко. Сугробы, что если ступить – провалишься по пояс.
В кабине было холодно. Я попросил включить печку.
– Не пашет, – беззаботно ответил водила.
Полдороги проехали. И тут водила загляделся на девку в купальнике, что была приклеена над приборной доской.
– На дорогу смотри, – сказал я. Но было уже поздно: «зилок» мягко сполз в кювет и завалился набок, высыпав в снег бидоны.
Лаяться с водилой было бесполезно. И сделать было ничего нельзя...
За очерк мне начислили пять рублей. Причем деньги надлежало получать самолично. То есть, выходить за расположение части на почту вместе с почтальоном. Так я заимел возможность выхода в город. Что тоже есть для солдата маленький, но праздник.
Я писал в газету очерк за очерком, заметку за заметкой. После второй публикации рядом с моей подписью появилась приставка: «внештатный корреспондент». Скоро по количеству публикаций я обошел пермяка, который своим примером подвиг меня на такую прибыльную деятельность. Трояки и пятерки складывались в приличные для солдата суммы. Вот оно, золотое дно! Теперь ночью в наряде я строчил очерки и заметки из солдатской жизни, забывая писать письма...
Кажется, после второй публикации меня вызвал замполит. Он был приветлив и все выспрашивал меня про службу, быт, взаимоотношения между солдатами и тому подобное. Это меня насторожило. И я решил сработать под дурачка, что у меня неплохо получалось на «гражданке», когда приходилось сталкиваться с милицией. Двор у нас был шебутной, перед поступлением в техникум восьмилетку я заканчивал в классе «Г» с такими пацанами, что поневоле набрался от них всякого-разного, ну и сказывалось отсутствие отца, умершего, когда мне было 14 лет. Минут сорок я изводил замполита своими бодрыми и громогласными «не могу знать», «виноват», «так точно» и «есть» с верноподданническим отданием чести и поеданием его глазами. Наконец, замполит устал от дурака. Ей богу, у него осталось после меня впечатление, что я так и не понял, что меня вербуют в стукача. Когда из этой затеи ничего не вышло, он устало произнес:
– Вы пишете заметки в газету...
– Так точно! – проорал я.
– Перед тем, как отослать их в газету, вы должны показывать их мне...
– Есть! – гаркнул я.
– Идите, – уныло посмотрел на меня замполит.
– Есть! – четко, как учили, отдал я честь и строевым шагом с правильной отмашкой рук вышел из кабинета.
Когда я пришел в полк, пермяк спросил:
– Вербовал?
– Ага, – ответил я.
– И что?
– Ничего, – сказал я.
– Меня он тоже вербовал...
– И что? – спросил я.
– Тоже ничего, – усмехнулся пермяк.
Я продолжал строчить в газету, игнорируя приказание замполита. Он снова вызвал меня и строго спросил:
– Я вам приказывал перед тем, как отсылать ваши заметки в газету, показывать их мне?
– Так точно! – ответил я.
– Почему вы не выполняете приказ?
– Виноват, товарищ майор!
– Впредь вы будете приносить заметки сначала мне, вы поняли?
– Так точно! – я решительно сдвинул брови и выдвинул вперед нижнюю челюсть, все видом показывая, что я расшибусь, но исполню приказ майора.
Замполит кисло посмотрел на меня и приказал:
– Идите...
– Есть! – ответил я и, чеканя шаг, вышел из кабинета.
Заметки я писал то ли до весны, то ли до лета 1975-го. И ни одной так и не принес замполиту. Потом, когда меня вернули в ШМС, увлечение это прошло. Как я теперь понимаю, я наигрался в эту игру. Привычка бросать какое-либо занятие, изучив его, достигнув определенных высот и поэтому (скорее всего) потеряв к нему интерес, будет сопровождать меня всю жизнь. Это, наверное, хорошо, поскольку браться за что-то новое всегда интересно и полезно. И видимо, это плохо, ибо будь я умней и практичней, то став ассом в конкретном деле, можно было бы потом спокойно пожинать плоды и почивать на лаврах. Не особо затрачивая себя...
Как я едва не замерз до смерти
Зима 1975-го была холоднущей. Я успевал замерзнуть, когда только шел через плац от расположения полка в свой класс. Или когда нас вели в столовую. Не спасали теплые портянки и подштанники с рубахой. Шинель защищала от ветра, но не грела. А уши у шапки можно было опускать только в карауле или по приказу. Это у «дедов» под гимнастеркой был надет теплый свитер, а под портянками были шерстяные носки. «Салабонам» и «черпакам» ни свитеров, ни носков было не положено.
Как-то в феврале, когда одна половина полка поехала менять вторую половину на боевом дежурстве, и в казарме практически никого не осталось, меня и загребли. Мне бы слинять пораньше в свой класс, и тогда ничего бы не случилось, но что-то задержало меня в казарме, и я попал на глаза ротному.
– Вот кого мы пошлем сопровождать обед!
– Мне надо в класс, – я попытался, было, сопротивляться, но ротный напомнил мне, что я, хоть и прикомандированный, но подчиняюсь по внутреннему распорядку ротному начальству.
Делать нечего: приказ. Я надел шинель, шапку и отправился на кухню, где в «зилок» уже грузили 40-литровые бидоны с обедом. Везти его нужно было для ребят, что сдавали и принимали боевое дежурство. Сели. Поехали. Выехали из расположения части. Кругом лес, красота. Заиндевелые деревья, словно в сказке про Морозко. Сугробы, что если ступить – провалишься по пояс.
В кабине было холодно. Я попросил включить печку.
– Не пашет, – беззаботно ответил водила.
Полдороги проехали. И тут водила загляделся на девку в купальнике, что была приклеена над приборной доской.
– На дорогу смотри, – сказал я. Но было уже поздно: «зилок» мягко сполз в кювет и завалился набок, высыпав в снег бидоны.
Лаяться с водилой было бесполезно. И сделать было ничего нельзя...
Потихоньку мы с водилой стали замерзать. Мы и в футбол играли, чтобы согреться, и бегали, и растирали ноги и руки снегом – помогало мало. Спички с сигаретами я оставил в расположении части, водила не курил, так что костер развести не было возможности.
Час прошел, второй. По лесной дороге так никто и не проехал. Больше всего замерзли ноги: сапоги на больших косточках были протерты до дыр, а портянки грели плохо. Еще через пару часов положение стало казаться безысходным. И мороз, кажется, крепчал. Еще через час стало темнеть. Мое состояние было таково, что было уже все равно, чем все кончится, лишь бы поскорее.
Когда стало почти темно, появился автобус. Он остановился возле нас, и из него вывалились развеселые подвыпившие рыбаки, возвращавшиеся с озер.
– Что, ребятки, не повезло? – спросили они.
После чего обошли «зилок», поднатужились и… поставили машину на колеса.
–Ну все, бывайте, – попрощались с нами рыбаки и уехали.
Мы с водилой воспряли. Подняли бидоны в кузов, сели в кабину, но завестись не смогли. Оказалось, когда «зилок» опрокинулся, вытек бензин. Мы остались сидеть в кабине. Мыслей не было. Было полное безразличие ко всему...
Нас спасло то, что мы дожили до возвращения смены. Той, что сдав боевое дежурство и не дождавшись обеда, возвращалась в расположения полка, чтобы поспеть к ужину. Водила стрельнул бензину, завелся, и мы поехали обратно в часть. Когда приехали, я не пошел на ужин и лег спать.
Через пару дней у меня с ног стала сползать кожа. Лоскутами, выдирая волосы. Я устраивал целые шоу, показывая, как сдираю с ног кожу, словно снимаю чулок.
Несколько месяцев после этого ничего особенного не случилось: я по-прежнему вел практические занятия в «своем» классе и ходил в наряды по роте, а когда в дневальные попадали деды, то мыл за них сортир и стоял «на тумбочке».
По прошествии года службы мне присвоили «сержанта». В «черпаки» меня произвели «деды», несильно отстучав по голой заднице половником 12 ударов. А еще через пару дней меня вернули в батарею при ШМС...
Час прошел, второй. По лесной дороге так никто и не проехал. Больше всего замерзли ноги: сапоги на больших косточках были протерты до дыр, а портянки грели плохо. Еще через пару часов положение стало казаться безысходным. И мороз, кажется, крепчал. Еще через час стало темнеть. Мое состояние было таково, что было уже все равно, чем все кончится, лишь бы поскорее.
Когда стало почти темно, появился автобус. Он остановился возле нас, и из него вывалились развеселые подвыпившие рыбаки, возвращавшиеся с озер.
– Что, ребятки, не повезло? – спросили они.
После чего обошли «зилок», поднатужились и… поставили машину на колеса.
–Ну все, бывайте, – попрощались с нами рыбаки и уехали.
Мы с водилой воспряли. Подняли бидоны в кузов, сели в кабину, но завестись не смогли. Оказалось, когда «зилок» опрокинулся, вытек бензин. Мы остались сидеть в кабине. Мыслей не было. Было полное безразличие ко всему...
Нас спасло то, что мы дожили до возвращения смены. Той, что сдав боевое дежурство и не дождавшись обеда, возвращалась в расположения полка, чтобы поспеть к ужину. Водила стрельнул бензину, завелся, и мы поехали обратно в часть. Когда приехали, я не пошел на ужин и лег спать.
Через пару дней у меня с ног стала сползать кожа. Лоскутами, выдирая волосы. Я устраивал целые шоу, показывая, как сдираю с ног кожу, словно снимаю чулок.
Несколько месяцев после этого ничего особенного не случилось: я по-прежнему вел практические занятия в «своем» классе и ходил в наряды по роте, а когда в дневальные попадали деды, то мыл за них сортир и стоял «на тумбочке».
По прошествии года службы мне присвоили «сержанта». В «черпаки» меня произвели «деды», несильно отстучав по голой заднице половником 12 ударов. А еще через пару дней меня вернули в батарею при ШМС...
Почетная обязанность, часть 6-я: от «черпака» до «деда»
После возвращения из полка в ШМС мне надлежало проживать не на первом этаже, где жили курсанты «учебки», а на втором. Подразделение, куда я попал, тоже называлось батареей, насчитывало человек двадцать и состояло из выходцев ШМС, которые служили писарями, в секретной части дивизии, клубе и т. д. Кроме одного рядового, все остальные были сержантами. Причем моего призыва было только трое: я, сержант Кузьменко и тот самый рядовой. Он все время ходил, измазанный в мелу, известке или цементе: исполнял ремонтно-строительные работы на территории части и на дому у кого-нибудь из офицеров. Имелось три «деда» (один из них был старшиной батареи), все белорусы, остальные батарейцы были младше призывом на полгода.
«Салабонов» «деды» не трогали. И отыгрывались на нас троих. Особенно доставалось строителю. Он всегда был грязный, не мог подтянуться больше трех раз и отмашку рук при строевых занятиях производил невпопад с шагом. Смотреть на это было забавно.
Олька
Жду солдата из армииНа гражданке у меня осталась девушка. Звали ее Ольгой. Мы учились вместе в техникуме в одной группе. Она была высокая, стройная и носила кружевное белье. Мы были с ней вместе с четвертого курса. На проводах, помню, мама строго следила за мной, чтобы мне не удалось уединиться с ней и не наделать глупостей, о которых мне потом пришлось бы пожалеть. Но старалась она зря: мы с Олькой еще до проводов успели не раз сделать то, что делают время от времени мужчины с женщинами, оставаясь с ними наедине.
Когда я отслужил месяцев восемь, от нее пришло письмо, в котором она просила меня вырваться из армии и приехать, поскольку к ней начал клеиться какой-то парень, и у нее остается все меньше сил отказывать ему. Теперь-то я понимаю, что это была мольба о помощи. Ольге было нужно, чтобы я появился, и она бы успокоилась в своих желаниях со мной. Иначе она успокоится с другим, поскольку страстное желание быть с мужчиной преобладало у нее, похоже, над всеми другими желаниями. И останавливало ее только одно: ее обещание дождаться меня из армии. Я обратился к командиру батареи касательно отпуска, загодя зная ответ. И я его получил:
– Нет.
А летом 1975 пришло письмо, в котором она сообщала, что выходит замуж. Сухо так, констатируя факт, не более. Еще и укорила меня в том, что по уходу в армию я ей ничего не обещал. В общем, она выставила меня виноватым в том, что не дождалась меня и выходит замуж за другого. Признаю: умеют женщины выкидывать подобные кунштюки.
Странное дело, но я расстроился не шибко. Это был не первый и не последний случай, когда парней не дожидались из армии. И солдаты реагировали по-разному. Кто-то сбегал из части, чтобы плюнуть бывшей любимой девушке в лицо прямо на ее свадьбе, кто-то плакал, кто-то молча переживал, сжав зубы и вынашивая план мести. Мол, вот ужо я вернусь, так я тебе тогда устрою...
Моя реакция была довольно спокойной. С полчаса я был мрачен и печален, но некое философское начало, присутствующее во мне, как я теперь вижу, с самого детского садика, взяло вверх. Сразу вспомнилось беспроигрышное: «что ни делается – все к лучшему» и «если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». К тому же невестой Ольгу я никогда не считал. И по приходу из армии, может, женился бы на ней, а может, и нет. И я не страдал от отсутствия любовных ласк, как страдала она. Некогда было страдать-то. А может, нам и вправду примешивали в пищу что-то такое эдакое, что сводило на нет мечты о девушках. Ходили в части разговоры о таком.
«Салабонов» «деды» не трогали. И отыгрывались на нас троих. Особенно доставалось строителю. Он всегда был грязный, не мог подтянуться больше трех раз и отмашку рук при строевых занятиях производил невпопад с шагом. Смотреть на это было забавно.
Олька
Жду солдата из армииНа гражданке у меня осталась девушка. Звали ее Ольгой. Мы учились вместе в техникуме в одной группе. Она была высокая, стройная и носила кружевное белье. Мы были с ней вместе с четвертого курса. На проводах, помню, мама строго следила за мной, чтобы мне не удалось уединиться с ней и не наделать глупостей, о которых мне потом пришлось бы пожалеть. Но старалась она зря: мы с Олькой еще до проводов успели не раз сделать то, что делают время от времени мужчины с женщинами, оставаясь с ними наедине.
Когда я отслужил месяцев восемь, от нее пришло письмо, в котором она просила меня вырваться из армии и приехать, поскольку к ней начал клеиться какой-то парень, и у нее остается все меньше сил отказывать ему. Теперь-то я понимаю, что это была мольба о помощи. Ольге было нужно, чтобы я появился, и она бы успокоилась в своих желаниях со мной. Иначе она успокоится с другим, поскольку страстное желание быть с мужчиной преобладало у нее, похоже, над всеми другими желаниями. И останавливало ее только одно: ее обещание дождаться меня из армии. Я обратился к командиру батареи касательно отпуска, загодя зная ответ. И я его получил:
– Нет.
А летом 1975 пришло письмо, в котором она сообщала, что выходит замуж. Сухо так, констатируя факт, не более. Еще и укорила меня в том, что по уходу в армию я ей ничего не обещал. В общем, она выставила меня виноватым в том, что не дождалась меня и выходит замуж за другого. Признаю: умеют женщины выкидывать подобные кунштюки.
Странное дело, но я расстроился не шибко. Это был не первый и не последний случай, когда парней не дожидались из армии. И солдаты реагировали по-разному. Кто-то сбегал из части, чтобы плюнуть бывшей любимой девушке в лицо прямо на ее свадьбе, кто-то плакал, кто-то молча переживал, сжав зубы и вынашивая план мести. Мол, вот ужо я вернусь, так я тебе тогда устрою...
Моя реакция была довольно спокойной. С полчаса я был мрачен и печален, но некое философское начало, присутствующее во мне, как я теперь вижу, с самого детского садика, взяло вверх. Сразу вспомнилось беспроигрышное: «что ни делается – все к лучшему» и «если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». К тому же невестой Ольгу я никогда не считал. И по приходу из армии, может, женился бы на ней, а может, и нет. И я не страдал от отсутствия любовных ласк, как страдала она. Некогда было страдать-то. А может, нам и вправду примешивали в пищу что-то такое эдакое, что сводило на нет мечты о девушках. Ходили в части разговоры о таком.
На картошке.
Солдат – лицо подневольное. Что прикажут, то и надлежит исполнять. Пришел приказ отправиться личному составу нескольких батарей при ШМС на уборку картошки. Кажется, на два дня. И как раз в те дни, когда у меня не было занятий в классе. Так что отвертеться не получилось.
Приехали в какой-то колхоз. Мне как сержанту надлежало обеспечить работу рядовых на поле. Я походил по рядам солдатиков, выкапывающих картошку, заскучал и отправился в магазин. Настроение было паршивое; выезд на волю всколыхнул воспоминания об Ольге, ведь мы с ней познакомились также на картошке, когда после поступления в техникум нас на месяц заслали убирать картошку в деревню.
Пришел в магазин. Потоптался. И купил пару чекушек водки и пряников. В обед мы выпили эти чекушки с двумя младшими сержантами. Показалось мало, и один из них слетал еще за парой.
После обеда снова вышли в поле. Я расставил солдатиков и снова отправился в магазин. Денежки у меня с моей «зарплатой» водились, и я купил штук шесть чекушек, рассовав их по карманам и за ремень изнутри гимнастерки. Уже собираясь уходить, я увидел в окно прапорщика, что был старшим всего нашего картофельного десанта.
– Если прапор будет спрашивать, что я у вас покупал, скажите, что брал пряники, – попросил я продавщицу. Та согласно кивнула.
С прапором я столкнулся на выходе из магазина. Он был в батарее новенький (институт прапорщиков ввели совсем недавно), подозрительно посмотрел на меня, но я отдал ему честь и быстренько ретировался.
Водочкой я разговелся в ужин прямо в столовой. Всех угощал, в том числе и рядовых. Последнее, что я помнил, это глаза прапора, наблюдавшего за мной через окно раздачи...
Утром следующего дня я проснулся связанным и лежащим на матрасе в коридоре. Когда я заорал, чтобы меня развязали, ко мне подошел один из «дедов».
– Проснулся? – усмехнулся он.
– Развяжи, – попросил я.
– Вот не знаю, стоит ли, – ответил «дед».
– А что такое, почему я связан? – спросил я, холодея от нехорошего предчувствия.
– Буянил, дрался, вот и связан, – сказал «дед».
– Дрался? С кем? – едва вымолвил я.
– Ты прапора нашего вырубил, – ответил «дед», как мне показалось, уважительно. – Не помнишь что ли?
Я ничего не помнил...
Через время «дед» меня развязал: пора было идти в столовую. Кусок в горло мне не лез, поэтому я только похлебал чайку. Прапора я в этот день не видел...
Солдат – лицо подневольное. Что прикажут, то и надлежит исполнять. Пришел приказ отправиться личному составу нескольких батарей при ШМС на уборку картошки. Кажется, на два дня. И как раз в те дни, когда у меня не было занятий в классе. Так что отвертеться не получилось.
Приехали в какой-то колхоз. Мне как сержанту надлежало обеспечить работу рядовых на поле. Я походил по рядам солдатиков, выкапывающих картошку, заскучал и отправился в магазин. Настроение было паршивое; выезд на волю всколыхнул воспоминания об Ольге, ведь мы с ней познакомились также на картошке, когда после поступления в техникум нас на месяц заслали убирать картошку в деревню.
Пришел в магазин. Потоптался. И купил пару чекушек водки и пряников. В обед мы выпили эти чекушки с двумя младшими сержантами. Показалось мало, и один из них слетал еще за парой.
После обеда снова вышли в поле. Я расставил солдатиков и снова отправился в магазин. Денежки у меня с моей «зарплатой» водились, и я купил штук шесть чекушек, рассовав их по карманам и за ремень изнутри гимнастерки. Уже собираясь уходить, я увидел в окно прапорщика, что был старшим всего нашего картофельного десанта.
– Если прапор будет спрашивать, что я у вас покупал, скажите, что брал пряники, – попросил я продавщицу. Та согласно кивнула.
С прапором я столкнулся на выходе из магазина. Он был в батарее новенький (институт прапорщиков ввели совсем недавно), подозрительно посмотрел на меня, но я отдал ему честь и быстренько ретировался.
Водочкой я разговелся в ужин прямо в столовой. Всех угощал, в том числе и рядовых. Последнее, что я помнил, это глаза прапора, наблюдавшего за мной через окно раздачи...
Утром следующего дня я проснулся связанным и лежащим на матрасе в коридоре. Когда я заорал, чтобы меня развязали, ко мне подошел один из «дедов».
– Проснулся? – усмехнулся он.
– Развяжи, – попросил я.
– Вот не знаю, стоит ли, – ответил «дед».
– А что такое, почему я связан? – спросил я, холодея от нехорошего предчувствия.
– Буянил, дрался, вот и связан, – сказал «дед».
– Дрался? С кем? – едва вымолвил я.
– Ты прапора нашего вырубил, – ответил «дед», как мне показалось, уважительно. – Не помнишь что ли?
Я ничего не помнил...
Через время «дед» меня развязал: пора было идти в столовую. Кусок в горло мне не лез, поэтому я только похлебал чайку. Прапора я в этот день не видел...
Старший сержант
Удивительное дело, но по возвращению в часть про мои «картофельные проделки» никто не стукнул. Правда, наш командир майор Манюня (так мы его звали за маленький рост и щуплость) как-то подозрительно посмотрел на меня, но, возможно, мне это только показалось.
И служба пошла своим чередом: класс, физподготовка, строевые занятия, наряды по батарее, учебному корпусу, караулы, класс...
Пришло увлечение резать гравюры, вся наша батарея этим увлекалась. Первой моей гравюрой была четверка «Битлз». Особенно мне удался Джон Леннон. Потом пошло-поехало. Гравюры резались в нарядах и личное время специальными резцами, сделанными из отверток. Технология была такова: брался кусок толстой фанеры, отрезался по нужному размеру, шлифовался мелкой шкуркой, потом покрывался тушью и сушился. Затем по нанесенному трафарету вырезался рисунок и покрывался лаком, который достать было трудно. Лак сох долго. У некоторых умельцев таких гравюр было несколько десятков, и при удобном случае или через почтальона они отсылали гравюры домой. С десяток отослал и я...
По прошествии полутора лет сержант Кузьменко и тот рядовой, что использовался в качестве строителя, получили десятидневный отпуск и уехали домой. Я получил звание старшего сержанта (потом я узнал, что отпуск мне не дали именно по причине моих «картофельных выкрутас»), проводил дембелей и стал «дедом». А вот старшиной батареи я не стал, хотя был в ней единственным старшим сержантом. Приказом майора Манюни по батарее старшиной был назначен получивший сержанта «черпак» Борька (фамилии не помню), опять-таки белорус. То, что мне не дали отпуска и не назначили старшиной батареи, меня не сильно расстроило. Главное, у меня не отобрали учебный класс...
Удивительное дело, но по возвращению в часть про мои «картофельные проделки» никто не стукнул. Правда, наш командир майор Манюня (так мы его звали за маленький рост и щуплость) как-то подозрительно посмотрел на меня, но, возможно, мне это только показалось.
И служба пошла своим чередом: класс, физподготовка, строевые занятия, наряды по батарее, учебному корпусу, караулы, класс...
Пришло увлечение резать гравюры, вся наша батарея этим увлекалась. Первой моей гравюрой была четверка «Битлз». Особенно мне удался Джон Леннон. Потом пошло-поехало. Гравюры резались в нарядах и личное время специальными резцами, сделанными из отверток. Технология была такова: брался кусок толстой фанеры, отрезался по нужному размеру, шлифовался мелкой шкуркой, потом покрывался тушью и сушился. Затем по нанесенному трафарету вырезался рисунок и покрывался лаком, который достать было трудно. Лак сох долго. У некоторых умельцев таких гравюр было несколько десятков, и при удобном случае или через почтальона они отсылали гравюры домой. С десяток отослал и я...
По прошествии полутора лет сержант Кузьменко и тот рядовой, что использовался в качестве строителя, получили десятидневный отпуск и уехали домой. Я получил звание старшего сержанта (потом я узнал, что отпуск мне не дали именно по причине моих «картофельных выкрутас»), проводил дембелей и стал «дедом». А вот старшиной батареи я не стал, хотя был в ней единственным старшим сержантом. Приказом майора Манюни по батарее старшиной был назначен получивший сержанта «черпак» Борька (фамилии не помню), опять-таки белорус. То, что мне не дали отпуска и не назначили старшиной батареи, меня не сильно расстроило. Главное, у меня не отобрали учебный класс...
Почетная обязанность, часть 7-я: «дед»
Сразу следует сказать о привилегиях, присущих в армии тех лет «дедам».
«Дед»:
— не застегивает ворот гимнастерки на крючок;
— носит ремень приспущенным на самые… эти самые;
— делает гармошкой голенища сапог и набивает высокие каблуки, сточенные сзади и с боков слегка наискосок;
— выделяется в строю светлым х/б, выцветшем при помощи стирки с хлоркой;
— не поет в строю, если не хочет;
— замыкает колонну и идет не в ногу;
— может игнорировать зарядку, отправившись досыпать в каптерку;
— не занимается уборкой, даже если находится в наряде;
— редко посылается в караул;
— носит укороченную шинель, ушитый п/ш, а головной убор, включая фуражку, находится у него сугубо на затылке;
— наглаживает на гимнастерке стрелку на спине от плеча до плеча на уровне лопаток (а вот это уже считалось неким явным выпадом против Устава и не нравилось многим офицерам);
— надевает в холодное время года вязаные носки, а под гимнастерку – жилетки или кофты и свитера с отпоротыми рукавами;
— носит летом неуставные плавки вместо трусов;
— загибает в дугу ременную пряжку;
— носит в погонах пластмассовые вкладыши;
— имеет право носить усы и реже стричься;
— всегда прав.
«Дед»:
— не застегивает ворот гимнастерки на крючок;
— носит ремень приспущенным на самые… эти самые;
— делает гармошкой голенища сапог и набивает высокие каблуки, сточенные сзади и с боков слегка наискосок;
— выделяется в строю светлым х/б, выцветшем при помощи стирки с хлоркой;
— не поет в строю, если не хочет;
— замыкает колонну и идет не в ногу;
— может игнорировать зарядку, отправившись досыпать в каптерку;
— не занимается уборкой, даже если находится в наряде;
— редко посылается в караул;
— носит укороченную шинель, ушитый п/ш, а головной убор, включая фуражку, находится у него сугубо на затылке;
— наглаживает на гимнастерке стрелку на спине от плеча до плеча на уровне лопаток (а вот это уже считалось неким явным выпадом против Устава и не нравилось многим офицерам);
— надевает в холодное время года вязаные носки, а под гимнастерку – жилетки или кофты и свитера с отпоротыми рукавами;
— носит летом неуставные плавки вместо трусов;
— загибает в дугу ременную пряжку;
— носит в погонах пластмассовые вкладыши;
— имеет право носить усы и реже стричься;
— всегда прав.
И главное, все это «деду» обычно сходит с рук, поскольку «дед» есть основная составляющая порядка в подразделении, когда в нем нет офицеров. «Дед» – опора армейской дисциплины, связующее звено между, например, командиром взвода или роты и основной массой солдат. Часто и воспитательную функцию офицеры перекладывали на «дедов», и те воспитывали молодых так же, как воспитывали когда-то их самих. Отсюда и слабина в дисциплине для «старослужащих».
Я вкладышей в погоны не насовывал, кокетку на спине не наглаживал и сточенные каблуки на сапоги не набивал. Свитер под гимнастеркой и шерстяные носки (портянки для такой обуви, как солдатские сапоги, были лучшим вариантом) я тоже не носил, поскольку после того как я едва не замерз в лесу, когда мы с водилой перевернулись на армейском «зилке», любые морозы переносил спокойно. И по сей день мне лучше, когда крепко холодно, нежели когда слишком жарко.
На зарядку я ходил по желанию. Как и сержант Кузьменко. И нередко до завтрака мы досыпали в каптерке, где уже находили «деда»-рядового, что был бессменным строителем. Он по-прежнему был чумаз, х/б было измазано в мелу и цементе, а посему никакого уважения к нему со стороны младших призывов не было: марку «деда» надлежало держать. Старшина батареи Борька, на полгода младше призывом, нас, троих дедов батареи, не трогал: не положено.
Я вкладышей в погоны не насовывал, кокетку на спине не наглаживал и сточенные каблуки на сапоги не набивал. Свитер под гимнастеркой и шерстяные носки (портянки для такой обуви, как солдатские сапоги, были лучшим вариантом) я тоже не носил, поскольку после того как я едва не замерз в лесу, когда мы с водилой перевернулись на армейском «зилке», любые морозы переносил спокойно. И по сей день мне лучше, когда крепко холодно, нежели когда слишком жарко.
На зарядку я ходил по желанию. Как и сержант Кузьменко. И нередко до завтрака мы досыпали в каптерке, где уже находили «деда»-рядового, что был бессменным строителем. Он по-прежнему был чумаз, х/б было измазано в мелу и цементе, а посему никакого уважения к нему со стороны младших призывов не было: марку «деда» надлежало держать. Старшина батареи Борька, на полгода младше призывом, нас, троих дедов батареи, не трогал: не положено.
«Дедовские» развлечения
Признаться, последние полгода в армии были полной лафой. Никто тебя не дергает, офицеры относятся уважительно (старший сержант, как-никак), в учебном классе полный порядок, полно знакомых и приятелей, с которыми можно послушать новые записи групп и поговорить «за жизнь». Когда же занятий в классе не было, я все равно уходил, записавшись у дневального, к себе в класс, надевал головные телефоны, врубал музыку и часами слушал ее, попивая из банки сгущенку. Или делал из табуреток лежанку возле батареи, закутывался в шинель и спал. Случалось, что до ужина, пропуская обед. А выспавшись днем, чудил ночью, придумывая всякие хохмы.
Нет, я не прибивал сапоги к полу, чтобы какой-нибудь молодой «черпачок», запрыгнув в сапоги по команде строиться, не смог сдвинуться с места. Не пришивал одеяло к матрасу, чтобы очумевший при команде «подъем» солдатик не мог встать с постели. Не резал резинки трусов, которые потом слетали при первом же шаге. Но у меня было два коронных номера, которые заставляли давиться от смеха всех, кто наблюдал за их исполнением.
Первым номером шло привязывание одеял. Заключалось оно в том, что с одного солдатика, спящего на втором ярусе кроватей, стягивалось одеяло, оголяя грудь. И привязывалось к другому одеялу, под которым спал через проход также на втором ярусе другой солдатик. Первый, с которого было стянуто одеяло, вскоре замерзал и натягивал одеяло на себя, оголяя тем самым солдата, что спал через проход. Скоро становилось прохладно уже второму солдатику. И он в свою очередь натягивал одеяло на себя, оголяя первого. Так они перетягивали одеяла до тех пор, пока не просыпались и не выясняли причину. А мы, наблюдая за всем этим, беззвучно хохотали.
Второй номер был сложнее. У нас в батарее служил один «салабон» метр пятьдесят ростом и худой, как спичка. Мы еще удивлялись, как такого мальца взяли в армию, а главное – зачем? У него был очень крепкий сон. Богатырский. Хоть из пушки пали. Так вот: номер состоял в том, что этого мальца мы подкладывали в постель к «деду»-строителю, который тоже спал, как убитый. Брали мальца втроем и аккуратно так переносили до постели «деда». Потом переворачивали «деда» на бок и укладывали на освободившееся место мальца. Ждать приходилось недолго. Обоим становилось тесно, они начинали ворочаться, а как тут ворочаться, если вас двое на узкой кровати с продавленной сеткой? Кто-то просыпался первым. Например, «дед». И находит у себя в кровати еще кого-то. Представляете ситуацию? Или, скажем, первым просыпался малец. И обнаруживал, что рядом с ним спит «дед». Малец был парнем шебутным. И начинал выяснять отношения. Мол, с какого рожна ты прилег ко мне, гадский «дед»? Дескать, даже если ты и «дед», то это вовсе не значит, что ты имеешь полное право забираться по ночам в постель к другим солдатам, даже и младше призывом. «Дед» вначале ничего не понимал, пытался как-то оправдаться, но потом, сбросив сон, обнаруживал, что спит он в своей постели. И вот тут начиналось самое интересное… Ну а мы, кто не спал, натурально угорали от смеха.
Один раз мы с сержантом Кузьменко, который был в приятельских отношениях с «дедом»-строителем, решили покрасить ему сакральное место тушью. И посмотреть, как он будет реагировать утром на почернение всех его причиндалов, когда, проснувшись, отправится в туалет оправляться. Дождавшись, когда «дед» крепко заснет, мы сняли с него трусы и стали тщательно и ответственно красить все, что у него имелось. Туши ушло половина флакона, поскольку его варево было весьма внушительных размеров. Потом, дав просохнуть туши, мы натянули на «деда» трусы и отправились спать, предвкушая то, что должно было случиться утром.
На следующий день, проснувшись до общего подъема, мы стали ждать. Вот объявляется команда «подъем». Наш «дед» неспешно поднимается и идет в сортир. Мы с Кузьменко следуем за ним. «Дед» встает у писсуара, спускает трусы, и тут раздается такой дикий крик ужаса, что все батарейцы замирают, а у нас с Кузьменко по коже начинают толпами бегать мурашки. Такого крика я никогда не слышал. Наверное, брачный рев марала показался бы безобидным попискиванием по сравнению со звуками, которые издал «дед». Да еще акустика большого туалета под кафельной плиткой и с высоченными потолками усилила этот звук. Потом «дед» долго мыл свои причиндалы под краном, мрачно поглядывая в мою сторону и что-то бормоча себе под нос. Позже, когда он успокоился, мы его спросили, чего он так сильно испугался.
– Я подумал, что у меня началась гангрена, – не сразу ответил «дед».
Не всегда в классе я только и делал, что слушал музыку или спал. Еще я читал. Все подряд, что было в дивизионной библиотеке, куда я записался, став «дедом». Я, кажется, прочитал практически все, что имелось в библиотеке. Начиная с собрания сочинений Герберта Уэллса и заканчивая шеститомным «Справочником машиностроителя». Чтение и вольное проведение свободного времени, которого стало много, подвигло меня к мысли, что после армии надо поступать учиться. Но отнюдь не в технический вуз, что было бы логичным после окончания химико-технологического техникума. В качестве вуза я выбрал, ни много ни мало, университет. Долго выбирал между журналистикой и историей. Выбор пал на историко-филологический факультет.
Так за слушанием музыки, чтением и доступными развлечениями я дождался Приказа «Об увольнении из рядов Вооруженных сил» маршала Гречко. Оставалось служить меньше двух месяцев...
Признаться, последние полгода в армии были полной лафой. Никто тебя не дергает, офицеры относятся уважительно (старший сержант, как-никак), в учебном классе полный порядок, полно знакомых и приятелей, с которыми можно послушать новые записи групп и поговорить «за жизнь». Когда же занятий в классе не было, я все равно уходил, записавшись у дневального, к себе в класс, надевал головные телефоны, врубал музыку и часами слушал ее, попивая из банки сгущенку. Или делал из табуреток лежанку возле батареи, закутывался в шинель и спал. Случалось, что до ужина, пропуская обед. А выспавшись днем, чудил ночью, придумывая всякие хохмы.
Нет, я не прибивал сапоги к полу, чтобы какой-нибудь молодой «черпачок», запрыгнув в сапоги по команде строиться, не смог сдвинуться с места. Не пришивал одеяло к матрасу, чтобы очумевший при команде «подъем» солдатик не мог встать с постели. Не резал резинки трусов, которые потом слетали при первом же шаге. Но у меня было два коронных номера, которые заставляли давиться от смеха всех, кто наблюдал за их исполнением.
Первым номером шло привязывание одеял. Заключалось оно в том, что с одного солдатика, спящего на втором ярусе кроватей, стягивалось одеяло, оголяя грудь. И привязывалось к другому одеялу, под которым спал через проход также на втором ярусе другой солдатик. Первый, с которого было стянуто одеяло, вскоре замерзал и натягивал одеяло на себя, оголяя тем самым солдата, что спал через проход. Скоро становилось прохладно уже второму солдатику. И он в свою очередь натягивал одеяло на себя, оголяя первого. Так они перетягивали одеяла до тех пор, пока не просыпались и не выясняли причину. А мы, наблюдая за всем этим, беззвучно хохотали.
Второй номер был сложнее. У нас в батарее служил один «салабон» метр пятьдесят ростом и худой, как спичка. Мы еще удивлялись, как такого мальца взяли в армию, а главное – зачем? У него был очень крепкий сон. Богатырский. Хоть из пушки пали. Так вот: номер состоял в том, что этого мальца мы подкладывали в постель к «деду»-строителю, который тоже спал, как убитый. Брали мальца втроем и аккуратно так переносили до постели «деда». Потом переворачивали «деда» на бок и укладывали на освободившееся место мальца. Ждать приходилось недолго. Обоим становилось тесно, они начинали ворочаться, а как тут ворочаться, если вас двое на узкой кровати с продавленной сеткой? Кто-то просыпался первым. Например, «дед». И находит у себя в кровати еще кого-то. Представляете ситуацию? Или, скажем, первым просыпался малец. И обнаруживал, что рядом с ним спит «дед». Малец был парнем шебутным. И начинал выяснять отношения. Мол, с какого рожна ты прилег ко мне, гадский «дед»? Дескать, даже если ты и «дед», то это вовсе не значит, что ты имеешь полное право забираться по ночам в постель к другим солдатам, даже и младше призывом. «Дед» вначале ничего не понимал, пытался как-то оправдаться, но потом, сбросив сон, обнаруживал, что спит он в своей постели. И вот тут начиналось самое интересное… Ну а мы, кто не спал, натурально угорали от смеха.
Один раз мы с сержантом Кузьменко, который был в приятельских отношениях с «дедом»-строителем, решили покрасить ему сакральное место тушью. И посмотреть, как он будет реагировать утром на почернение всех его причиндалов, когда, проснувшись, отправится в туалет оправляться. Дождавшись, когда «дед» крепко заснет, мы сняли с него трусы и стали тщательно и ответственно красить все, что у него имелось. Туши ушло половина флакона, поскольку его варево было весьма внушительных размеров. Потом, дав просохнуть туши, мы натянули на «деда» трусы и отправились спать, предвкушая то, что должно было случиться утром.
На следующий день, проснувшись до общего подъема, мы стали ждать. Вот объявляется команда «подъем». Наш «дед» неспешно поднимается и идет в сортир. Мы с Кузьменко следуем за ним. «Дед» встает у писсуара, спускает трусы, и тут раздается такой дикий крик ужаса, что все батарейцы замирают, а у нас с Кузьменко по коже начинают толпами бегать мурашки. Такого крика я никогда не слышал. Наверное, брачный рев марала показался бы безобидным попискиванием по сравнению со звуками, которые издал «дед». Да еще акустика большого туалета под кафельной плиткой и с высоченными потолками усилила этот звук. Потом «дед» долго мыл свои причиндалы под краном, мрачно поглядывая в мою сторону и что-то бормоча себе под нос. Позже, когда он успокоился, мы его спросили, чего он так сильно испугался.
– Я подумал, что у меня началась гангрена, – не сразу ответил «дед».
Не всегда в классе я только и делал, что слушал музыку или спал. Еще я читал. Все подряд, что было в дивизионной библиотеке, куда я записался, став «дедом». Я, кажется, прочитал практически все, что имелось в библиотеке. Начиная с собрания сочинений Герберта Уэллса и заканчивая шеститомным «Справочником машиностроителя». Чтение и вольное проведение свободного времени, которого стало много, подвигло меня к мысли, что после армии надо поступать учиться. Но отнюдь не в технический вуз, что было бы логичным после окончания химико-технологического техникума. В качестве вуза я выбрал, ни много ни мало, университет. Долго выбирал между журналистикой и историей. Выбор пал на историко-филологический факультет.
Так за слушанием музыки, чтением и доступными развлечениями я дождался Приказа «Об увольнении из рядов Вооруженных сил» маршала Гречко. Оставалось служить меньше двух месяцев...
Почетная обязанность, часть 8-я: дембель
Дембеля – особая каста. Почти неприкасаемые. У них иная походка, иной взгляд, иная речь. Они одной ногой на гражданке, и это чувствуют и офицеры, и солдаты, которым еще тянуть и тянуть армейскую лямку.
Дембеля заняты тем, что готовятся ехать домой. Они ушивают «парадки», меняют знаки классности (обычно он первый) «Гвардия» и «Отличник Советской Армии» на новенькие, составляют дембельские альбомы и достают себе кожаные портфели, что тогда сделать было отнюдь не просто. Особо шустрые добывают для себя дипломаты, обтянутые искусственной кожей – предмет крайне дефицитный и на гражданке. Портфели и дипломаты предназначены для того, чтобы положить в них особо удавшиеся гравюры и письма, что были получены за два года службы. И увезти их домой. Но главным образом портфели нужны, чтобы привезти в них домой дембельские альбомы.
Дембеля заняты тем, что готовятся ехать домой. Они ушивают «парадки», меняют знаки классности (обычно он первый) «Гвардия» и «Отличник Советской Армии» на новенькие, составляют дембельские альбомы и достают себе кожаные портфели, что тогда сделать было отнюдь не просто. Особо шустрые добывают для себя дипломаты, обтянутые искусственной кожей – предмет крайне дефицитный и на гражданке. Портфели и дипломаты предназначены для того, чтобы положить в них особо удавшиеся гравюры и письма, что были получены за два года службы. И увезти их домой. Но главным образом портфели нужны, чтобы привезти в них домой дембельские альбомы.
Дембельский альбом
Дембельский альбом – не просто альбом с фотками. Это памятная рукотворная книга о пребывании в армии, специальным образом оформленная. Картонная обложка альбома часто обтягивалась бархатом или офицерским сукном с окантовкой из шелкового шнура, а это опять-таки надо было умудриться достать. Оформлялась обложка медной чеканкой или фольгой с обязательным сроком службы, родом войск и номером воинской части. Страницы альбома разделялись калькой с рисунками или тончайшей папиросной бумагой; надписи вырезались из фольги или кусочков бархатной бумаги, а главные фотографии альбома клеились на специальных подкладках опять же из бархата или чего-то подобного.
Дембелем такой альбом делался с огромной любовью и редко самостоятельно. Обычно оформление альбома поручалось «салабону», умеющему рисовать и имеющему каллиграфический почерк. Каким должен быть альбом – оговаривалось тщательно и до самых незначительных мелочей. Молодые, занятые дембельскими альбомами, освобождались от нарядов, подкармливались и получали от дембелей защиту от «черпаков». Работа над дембельским альбомом контролировалась ежедневно.
В составлении дембельского альбома имелись сложившиеся за многие годы правила:
— на первой странице помещалась фотография дембеля в парадной форме со всеми знаками отличия;
— затем располагалось фото девушки, если таковая имелась и ждала;
— далее в хронологическом порядке следовали фотографии по годам службы: «салабон», «черпак», «дед», перемежавшиеся фотками, на которых была запечатлена обычная армейская жизнь;
— нередко перед главным фото помещался приказ о призыве на воинскую службу, а в конце альбома – приказ о демобилизации;
— имеюлись различного рода надписи и армейские афоризмы, например: «Связь – нерв армии», «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется» и т. д.
Дембельский альбом – не просто альбом с фотками. Это памятная рукотворная книга о пребывании в армии, специальным образом оформленная. Картонная обложка альбома часто обтягивалась бархатом или офицерским сукном с окантовкой из шелкового шнура, а это опять-таки надо было умудриться достать. Оформлялась обложка медной чеканкой или фольгой с обязательным сроком службы, родом войск и номером воинской части. Страницы альбома разделялись калькой с рисунками или тончайшей папиросной бумагой; надписи вырезались из фольги или кусочков бархатной бумаги, а главные фотографии альбома клеились на специальных подкладках опять же из бархата или чего-то подобного.
Дембелем такой альбом делался с огромной любовью и редко самостоятельно. Обычно оформление альбома поручалось «салабону», умеющему рисовать и имеющему каллиграфический почерк. Каким должен быть альбом – оговаривалось тщательно и до самых незначительных мелочей. Молодые, занятые дембельскими альбомами, освобождались от нарядов, подкармливались и получали от дембелей защиту от «черпаков». Работа над дембельским альбомом контролировалась ежедневно.
В составлении дембельского альбома имелись сложившиеся за многие годы правила:
— на первой странице помещалась фотография дембеля в парадной форме со всеми знаками отличия;
— затем располагалось фото девушки, если таковая имелась и ждала;
— далее в хронологическом порядке следовали фотографии по годам службы: «салабон», «черпак», «дед», перемежавшиеся фотками, на которых была запечатлена обычная армейская жизнь;
— нередко перед главным фото помещался приказ о призыве на воинскую службу, а в конце альбома – приказ о демобилизации;
— имеюлись различного рода надписи и армейские афоризмы, например: «Связь – нерв армии», «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется» и т. д.
Время от времени командиром подразделения устраивался шмон на предмет наличия в дембельских альбомах фотографий, которым быть не положено. Если в альбомах находились фотографии, на которых были запечатлены хотя бы кусочек территории части, охраняемые в караулах объекты (в том числе и «чапок»), военная техника и т. п., то такие фотки изымались. Это огорчало дембелей, но ненадолго. Вскоре в альбомах неизменно появлялись такие же фотки и занимали отведенное для них место.
Став дембелем, я делал все то же, что делал в бытность простым «дедом»: игнорировал утренние пробежки, вел в классе занятия, читал, слушал музыку, спал во внеурочные часы в классе, словом, всячески убивал время до отправки домой.
А время явно замедлило свой ход. Именно в армии я понял, что время в разном возрасте и в различных жизненных ситуациях течет с разной скоростью. А то, что сутки имеют 24 часа, час – 60 минут, а минута – 60 секунд, так это люди просто об этом когда-то договорились, чтобы не было хаоса и путаницы. Как некогда договорились о том, что трава имеет зеленый цвет, а небо – голубой.
Дембельский аккорд
К первому мая отпустили домой всех дембелей-отличников боевой и политической подготовки. Из служак, которые до последней минуты пребывания в армии чтили Устав или по крайней мере делали вид, что чтили. И еще отпустили тех, кто исполнил к этому времени «дембельский аккорд», то есть разовую работу, по окончании которой исполнителю была обещана демобилизация. Дембеля охотно брались за аккорд, чтобы попасть в более ранние партии отправки домой, которые составлялись командиром части.
Дембельские аккорды были разными, от нанесения разметки на плацу и оформления Ленинской комнаты до покраски казармы и починки наглядных пособий. Естественно, многие объемные работы дембеля выполняли не сами, а заставляли молодых, подгоняя их, дабы уложиться в срок. И укладывались, после чего получали бумагу о демобилизации и десять рублей на дорогу. В назначенное время в часть приезжал автобус, дембеля выстраивались в одну шеренгу, проводился последний досмотр личных вещей, после чего увольняемые из армии садились в автобус, и тот вез их на вокзал. На этом служба в армии заканчивалась.
Став дембелем, я делал все то же, что делал в бытность простым «дедом»: игнорировал утренние пробежки, вел в классе занятия, читал, слушал музыку, спал во внеурочные часы в классе, словом, всячески убивал время до отправки домой.
А время явно замедлило свой ход. Именно в армии я понял, что время в разном возрасте и в различных жизненных ситуациях течет с разной скоростью. А то, что сутки имеют 24 часа, час – 60 минут, а минута – 60 секунд, так это люди просто об этом когда-то договорились, чтобы не было хаоса и путаницы. Как некогда договорились о том, что трава имеет зеленый цвет, а небо – голубой.
Дембельский аккорд
К первому мая отпустили домой всех дембелей-отличников боевой и политической подготовки. Из служак, которые до последней минуты пребывания в армии чтили Устав или по крайней мере делали вид, что чтили. И еще отпустили тех, кто исполнил к этому времени «дембельский аккорд», то есть разовую работу, по окончании которой исполнителю была обещана демобилизация. Дембеля охотно брались за аккорд, чтобы попасть в более ранние партии отправки домой, которые составлялись командиром части.
Дембельские аккорды были разными, от нанесения разметки на плацу и оформления Ленинской комнаты до покраски казармы и починки наглядных пособий. Естественно, многие объемные работы дембеля выполняли не сами, а заставляли молодых, подгоняя их, дабы уложиться в срок. И укладывались, после чего получали бумагу о демобилизации и десять рублей на дорогу. В назначенное время в часть приезжал автобус, дембеля выстраивались в одну шеренгу, проводился последний досмотр личных вещей, после чего увольняемые из армии садились в автобус, и тот вез их на вокзал. На этом служба в армии заканчивалась.
Я в отличие от сержанта Кузьменко и «деда»-строителя дембельский аккорд не взял, сославшись на то, что мне нужно передавать учебный класс. Отчасти это была правда, поскольку класс со всем его оборудованием, ключами и печатью я должен был официально передать своей замене, которым оказался тот самый прапорщик, коего я уронил, будучи на картошке. Прапор принять класс не спешил, да еще и был туповат по части техники. Ему приходилось объяснять и показывать, как все работает, что давалось ему с трудом.
А май месяц уже перевалил на вторую неделю, в батарее из дембелей я остался один, меня вывели за штат и перестали мной интересоваться, будто меня и не было. Я слонялся по части вместе с такими же неприкаянными дембелями в натурально белых х/б и пилотках, и мы издали узнавали друг друга, как рыбак рыбака… Многие из них были призваны в апреле, так что практически служили третий год службы. Они нашивали на рукава гимнастерки три продольные полоски, обозначающие третий год службы, что крайне не нравилось дежурным офицерам и внутреннему патрулю. Они заставляли дембелей срывать третью полоску. Дембеля, ухмыляясь, срывали, уходили к себе в расположение, чтобы снова нашить третью полоску. И были формально правы...
Домой!
Наконец, прапор принял у меня класс. 11 мая 1976 года я был уволен из армии по окончанию срока службы. Примечательно, что призван я был аккурат 11 мая 1974 года, так что нашивать третью полоску оснований у меня не было. Я получил от маршала Гречко червонец на дорогу, попрощался с друзьями и товарищами, с кем счел нужным, и отправился на плац ждать «дембельский» автобус.
Где-то в полдень автобус подошел. Нас, человек 15 дембелей, выстроили на плацу и стали досматривать, кто что с собой везет. Я вызвал крайнее подозрение, поскольку был без портфеля и, стало быть, без дембельского альбома. Я был вообще без каких-либо вещей. Во внутреннем кармане парадки у меня лежал военный билет и 70 рублей денег, в другом кармане была пачка сигарет и спички, и все! На вопрос: «А где ваши вещи» я улыбнулся и ответил:
– У меня нет вещей.
То, что дембельский альбом и гравюры я отправил по почте еще пару недель назад, смотавшись в самоволку, я, естественно, сообщать не стал.
Прозвучала команда на посадку в автобус. Офицер, что нас досматривал, не сводил с меня глаз, думая, что при посадке я достану из ближайших кустов портфель, и тут-то он меня остановит, досмотрит, найдет что-либо неположенное, например, неуставную фотографию, и задержит мой дембель. Но я спокойно вошел в автобус, сел у окна, нашел взглядом офицера и сахарно улыбнулся.
А потом мы поехали. Веселые и уже почти гражданские. Когда выезжали за ворота части, веселье улетучилось и нахлынула непонятная печаль. Словно закончилось то, что, оказывается, имело большое значение для нас, и что больше никогда не повторится.
А потом была дорога домой. Мне едва удалось сесть на проходящий поезд, переполненный пассажирами, и поначалу я и пара таких же дембелей натурально висели, держась за вагонные поручни, словно мы ехали на трамвае. По мере остановок мы постепенно внедрялись в вагон, а после Москвы уже сидели в вагоне-ресторане, выпивая и поедая все, что в нем имелось.
Я проснулся свежий, как огурчик с грядки, наверное, минут за десять до прибытия в свой родной город. Вот поезд остановился. Я вышел, вздохнул забытый воздух города и понял: я дома...
Леонид
А май месяц уже перевалил на вторую неделю, в батарее из дембелей я остался один, меня вывели за штат и перестали мной интересоваться, будто меня и не было. Я слонялся по части вместе с такими же неприкаянными дембелями в натурально белых х/б и пилотках, и мы издали узнавали друг друга, как рыбак рыбака… Многие из них были призваны в апреле, так что практически служили третий год службы. Они нашивали на рукава гимнастерки три продольные полоски, обозначающие третий год службы, что крайне не нравилось дежурным офицерам и внутреннему патрулю. Они заставляли дембелей срывать третью полоску. Дембеля, ухмыляясь, срывали, уходили к себе в расположение, чтобы снова нашить третью полоску. И были формально правы...
Домой!
Наконец, прапор принял у меня класс. 11 мая 1976 года я был уволен из армии по окончанию срока службы. Примечательно, что призван я был аккурат 11 мая 1974 года, так что нашивать третью полоску оснований у меня не было. Я получил от маршала Гречко червонец на дорогу, попрощался с друзьями и товарищами, с кем счел нужным, и отправился на плац ждать «дембельский» автобус.
Где-то в полдень автобус подошел. Нас, человек 15 дембелей, выстроили на плацу и стали досматривать, кто что с собой везет. Я вызвал крайнее подозрение, поскольку был без портфеля и, стало быть, без дембельского альбома. Я был вообще без каких-либо вещей. Во внутреннем кармане парадки у меня лежал военный билет и 70 рублей денег, в другом кармане была пачка сигарет и спички, и все! На вопрос: «А где ваши вещи» я улыбнулся и ответил:
– У меня нет вещей.
То, что дембельский альбом и гравюры я отправил по почте еще пару недель назад, смотавшись в самоволку, я, естественно, сообщать не стал.
Прозвучала команда на посадку в автобус. Офицер, что нас досматривал, не сводил с меня глаз, думая, что при посадке я достану из ближайших кустов портфель, и тут-то он меня остановит, досмотрит, найдет что-либо неположенное, например, неуставную фотографию, и задержит мой дембель. Но я спокойно вошел в автобус, сел у окна, нашел взглядом офицера и сахарно улыбнулся.
А потом мы поехали. Веселые и уже почти гражданские. Когда выезжали за ворота части, веселье улетучилось и нахлынула непонятная печаль. Словно закончилось то, что, оказывается, имело большое значение для нас, и что больше никогда не повторится.
А потом была дорога домой. Мне едва удалось сесть на проходящий поезд, переполненный пассажирами, и поначалу я и пара таких же дембелей натурально висели, держась за вагонные поручни, словно мы ехали на трамвае. По мере остановок мы постепенно внедрялись в вагон, а после Москвы уже сидели в вагоне-ресторане, выпивая и поедая все, что в нем имелось.
Я проснулся свежий, как огурчик с грядки, наверное, минут за десять до прибытия в свой родной город. Вот поезд остановился. Я вышел, вздохнул забытый воздух города и понял: я дома...
Леонид
Источник:
реклама
































































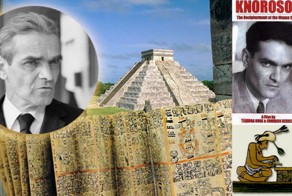
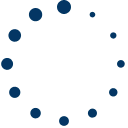
Но это было вступление...
Через два месяца отправка в часть. Кто попал в строевую роту - дисциплина гренадерская устав, строевой шаг или бегом... тому повезло.
А кто оказался в роте МТО или на складах...
Полный беспредел неуставных отношении, до уголовщины и самоубийств.
Зато дедам там конечно было хорошо...
Да...
Школа возмужания...твою мать
у автора хороший слог, легко читается.
вспомнил свою службу в армии