870
2
11 октября 1931 года в СССР полностью запретили частную торговлю. Эта мера юридически закрепила отмену новой экономической политики 20-х и привела к серьезному ухудшению жизни трудящихся.
НЭП стал для большевиков единственным способом удержаться у власти. Всем было очевидно, что коммунизм, который они пытались внедрить, провалился. Поэтому от него дистанцировались, обозвав «военным коммунизмом» и объявив «вынужденной мерой». Хотя раньше Ленин говорил по-другому:
Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. «Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать», — так рассуждает крестьянин, по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление. Свободная торговля хлебом означает обогащение благодаря этому хлебу, — это и есть возврат к старому капитализму, этого мы не допустим, тут мы будем вести борьбу во что бы то ни стало.
НЭП частично возвращал капиталистические отношения. Правда, в очень урезанном виде. Разрешалось существовать небольшим частным предприятиям, магазинам, лавкам и т. д. Разумеется, частника нещадно грабили налогами, но это было всё равно лучше военного коммунизма.
В конце 20-х началась индустриализация, которая потребовала жестокой коллективизации. Большевикам не хватало валюты, чтобы платить за станки и услуги западных инженеров, поэтому решено было грабить деревню. Крестьян согнали в колхозы и почти бесплатно забирали у них нужное количество хлеба по максимально заниженной закупочной цене.
Слом традиционных торговых отношений в деревне привел к серьезным последствиям. Наращивание экспорта, а также уничтожение кулаков привело к перебоям с продовольствием в городах. Пришлось вводить сначала хлебные карточки, потом продовольственные (на другие товары) и промышленные (на несъедобные вещи).
И в этой ситуации товарищ Сталин принимает гениальное управленческое решение — запретить к черту всю частную торговлю! Военный коммунизм с его с его распределением продовольствия командно-административными методами вернулся.
Вместо закрывшихся магазинов появились закрытые спецраспределители. Попасть в них, не имея документов, было просто невозможно. В больших ведомствах спецраспределители были побогаче, для простых рабочих — победнее. Поскольку распределителей было явно меньше, чем магазинов, в них выстраивались огромные очереди на отоваривание карточек.
Но и это еще не все. Постепенно снижались нормы выдачи по хлебным карточкам. В отдельных регионах к 1932 году норма выдачи хлеба сократилась до 11 килограммов для рабочего и до 4 килограммов на ребенка. 11 килограммов в месяц — это примерно 350 граммов хлеба в сутки. Для сравнения, когда в блокадном Ленинграде снизили норму выдачи до 250 граммов, город моментально начал вымирать.
Конечно, в начале 30-х помимо хлебных карточек существовали еще и овощные, так что ели все же чуть побольше, чем в блокаду. Но положение было очень скверным. Рабочие сидели с кучей денег-фантиков, на которые ничего нельзя купить, да и негде.
Вскоре начались протесты. Самые громкие выступления произошли в Ивановской области в городе Вичуга в апреле 1932 года. Там разъяренные пролетарии штурмовали здание ОГПУ, а по ним стреляли чекисты и милиционеры. К забастовке и последующим столкновениям присоединились почти все городские рабочие, мотивировавшие это так:
Товарищи! Мы умрем от голода на шестнадцатом году революции, наши дети умрут, и что мы будем делать — молчать? Если Сталина поставить на одиннадцать килограммов, то он, вероятно, покинет партию.
События в Вичуге напугали большевиков. Бунтовал целый город, и не какие-нибудь буржуи, а авангард революции — рабочий класс. В город срочно отправили Кагановича, который привез еды, успокоил взбунтовавшихся рабочих, пообещал все исправить и поругал местное руководство, которое просто сбежало из города, испугавшись рабочих.
Фактически именно это событие и отменило второе пришествие военного коммунизма — теперь уже не по-ленински, а по-сталински. В мае 1932 года частную торговлю вновь разрешили. Колхозам позволили продавать излишки своей продукции, а колхозникам — в том числе и продукты с приусадебных участков, которые тоже недавно разрешили.
Так появились колхозные рынки, просуществовавшие до самого конца СССР и бывшие едва ли не единственным местом, где дефицит случался сравнительно редко (правда, и цены там были существенно выше, чем в государственных магазинах, где они скрыто дотировались). Кроме того, были отменены высокие налоги на эту торговлю и незначительно снижены обязательства колхозов по овощам.
Полный запрет на частную торговлю просуществовал около полугода. Это была последняя попытка отменить торговые отношения в СССР. Как и первая (времен военного коммунизма), она завершилась неудачей. Торговлю оказалось не по силам отменить даже большевикам.
Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. «Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать», — так рассуждает крестьянин, по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление. Свободная торговля хлебом означает обогащение благодаря этому хлебу, — это и есть возврат к старому капитализму, этого мы не допустим, тут мы будем вести борьбу во что бы то ни стало.
НЭП частично возвращал капиталистические отношения. Правда, в очень урезанном виде. Разрешалось существовать небольшим частным предприятиям, магазинам, лавкам и т. д. Разумеется, частника нещадно грабили налогами, но это было всё равно лучше военного коммунизма.
В конце 20-х началась индустриализация, которая потребовала жестокой коллективизации. Большевикам не хватало валюты, чтобы платить за станки и услуги западных инженеров, поэтому решено было грабить деревню. Крестьян согнали в колхозы и почти бесплатно забирали у них нужное количество хлеба по максимально заниженной закупочной цене.
Слом традиционных торговых отношений в деревне привел к серьезным последствиям. Наращивание экспорта, а также уничтожение кулаков привело к перебоям с продовольствием в городах. Пришлось вводить сначала хлебные карточки, потом продовольственные (на другие товары) и промышленные (на несъедобные вещи).
И в этой ситуации товарищ Сталин принимает гениальное управленческое решение — запретить к черту всю частную торговлю! Военный коммунизм с его с его распределением продовольствия командно-административными методами вернулся.
Вместо закрывшихся магазинов появились закрытые спецраспределители. Попасть в них, не имея документов, было просто невозможно. В больших ведомствах спецраспределители были побогаче, для простых рабочих — победнее. Поскольку распределителей было явно меньше, чем магазинов, в них выстраивались огромные очереди на отоваривание карточек.
Но и это еще не все. Постепенно снижались нормы выдачи по хлебным карточкам. В отдельных регионах к 1932 году норма выдачи хлеба сократилась до 11 килограммов для рабочего и до 4 килограммов на ребенка. 11 килограммов в месяц — это примерно 350 граммов хлеба в сутки. Для сравнения, когда в блокадном Ленинграде снизили норму выдачи до 250 граммов, город моментально начал вымирать.
Конечно, в начале 30-х помимо хлебных карточек существовали еще и овощные, так что ели все же чуть побольше, чем в блокаду. Но положение было очень скверным. Рабочие сидели с кучей денег-фантиков, на которые ничего нельзя купить, да и негде.
Вскоре начались протесты. Самые громкие выступления произошли в Ивановской области в городе Вичуга в апреле 1932 года. Там разъяренные пролетарии штурмовали здание ОГПУ, а по ним стреляли чекисты и милиционеры. К забастовке и последующим столкновениям присоединились почти все городские рабочие, мотивировавшие это так:
Товарищи! Мы умрем от голода на шестнадцатом году революции, наши дети умрут, и что мы будем делать — молчать? Если Сталина поставить на одиннадцать килограммов, то он, вероятно, покинет партию.
События в Вичуге напугали большевиков. Бунтовал целый город, и не какие-нибудь буржуи, а авангард революции — рабочий класс. В город срочно отправили Кагановича, который привез еды, успокоил взбунтовавшихся рабочих, пообещал все исправить и поругал местное руководство, которое просто сбежало из города, испугавшись рабочих.
Фактически именно это событие и отменило второе пришествие военного коммунизма — теперь уже не по-ленински, а по-сталински. В мае 1932 года частную торговлю вновь разрешили. Колхозам позволили продавать излишки своей продукции, а колхозникам — в том числе и продукты с приусадебных участков, которые тоже недавно разрешили.
Так появились колхозные рынки, просуществовавшие до самого конца СССР и бывшие едва ли не единственным местом, где дефицит случался сравнительно редко (правда, и цены там были существенно выше, чем в государственных магазинах, где они скрыто дотировались). Кроме того, были отменены высокие налоги на эту торговлю и незначительно снижены обязательства колхозов по овощам.
Полный запрет на частную торговлю просуществовал около полугода. Это была последняя попытка отменить торговые отношения в СССР. Как и первая (времен военного коммунизма), она завершилась неудачей. Торговлю оказалось не по силам отменить даже большевикам.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как строили главный магазин России
- За кулисами советской киноклассики
- Автоматические удовлетворители: как придумали торговые автоматы в СССР
- 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные парни во времена СССР
- "Они такие же, как мы". Периоды разрядки в отношениях США и СССР


































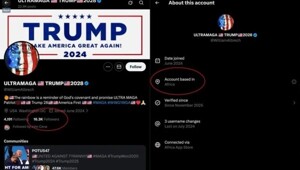

















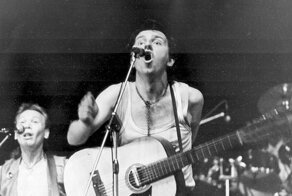





"И эти люди запрещают нам ковыряться в носу..."®