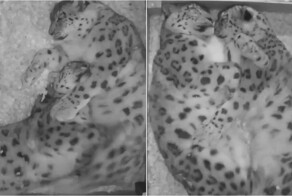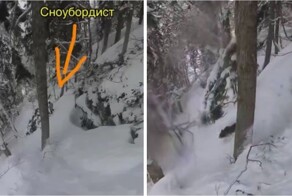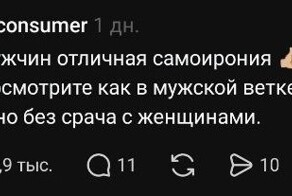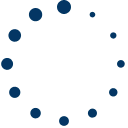838
1
Обряды в каждом регионе разные. Часто опираются они на древние традиции
Тем летним днём, бабушка с дедом снова поругались. Нет. Это бабушка. И я, убей, не помню, какой повод был, а только мы с ней в гости пошли. Помню, нарядные, пошли. Как на танцы. И платье она мне выдала в красный горох. Я девчушка восьми лет, не по годам рослая, с карими, почти черными глазами, волосами цвета золотой соломы, немного полноватая. Бабушки, никак не могут претерпеть, чтобы внуки росли в худобе. Бабушка, чей век перевалил за шестьдесят, невысокая, быстрая в движениях, суровая в мыслях, с вечным платком на голове, скрывающим черные еще, не тронутые сединой волосы. Ходить в гости, как способ, бежать от семейных неприятностей, как видно, радовал бабушку. В тот день, для визита, выбрала она свою старую знакомую, Наталья кликали. Далеко она жила, на другом конце деревни.
Её отец нас встретил, и через тын, сказал:
- Нету, ти, до Баркова дома пошла. Там ноне Петра хоронят. На поминках застанете.
Бабушка осмотрелась. Как видно, скорое возвращение домой не планировалось. И длинный путь через всю деревню, жар не охладил. И пошли, мы, прямёхонько на поминки.
В деревнях у всех свой устав, как хоронить, как провожать.
Широкий с трёх сторон закрытый двор. Решетка для винограда связывала две стороны, лоза заплела потолок, свисали прядями грозди плодов, недавно отцветшие, салатно-зелёные. На мощеном полу, стоял длинный стол, за которым сидели уже изрядно подвыпившие селяне. Нарядные. Женщины в белых шитых рубашках. Мужчины в темных брюках и светлых рубахах. Но гнетущий траурный цвет, словно забыл о событии, и не было его на тех поминках, как не было и кромешной черноты и безутешного горя. Дед Савелий, как мне представили сухого морщинистого старичка, сидел поодаль и наигрывал на гармошке. Не сказать, чтоб плясовую. Но и на слезу не пробивало. Наименование дед или тетка, как я скоро узнала, никакого родственного родства не подразумевают. Среди пестроты и улыбок, разглядели мы Наталью. Она сидела рядом с Мариной, «молодой» вдовой покойного Петра. Сам Петр, отчего-то лежал здесь же. На табуретках ютился гроб. Покойный в лучшем костюме, обложенный цветами. С глазами накрытыми монетками. Белый, как саван.
- Проходите, проходите, песен наших причитальных послухаете! – обрадовавшись новым гостям, сказала Григорьевна, хранитель старины, знавшая до последнего слова, наверное, больше сотни песен по каждому ритуальному поводу. Пётр и Марина были не местными. Как и Григорьевна, родом вышли, с северной части России.
Сели мы за стол. Подвинули нам, что самым вкусным считали. Бабушка села. Но видела я, что гнев её не оставляет. И не надо бы к людям. Но бабушка, словно менялась. Как от вина блестели её глаза. А Григорьевна затянула:
Темными лесами дремучими
Высокими горами толкучими
Дикими болотами и мхами дыбучими
За свирью-рекою свирепою,
Малыми круглыми озерышками,
Островами незнакомыми и берегами небывалыми, -
С каждой строчкой, голос плакальщицы становился всё ниже и дурнее, она продолжала:
Мелькают деревца шатучие суховерхие, рощицы еловые,
Горькие осинушки, курчавые березыньки, ракитовые кустики,
Малиновые прутики; а в них витают змеи клевучие и звери съедучие;
Встречу я заюшку загнанного, горностаюшка упалого, серого волка и звиря…
Страшным голосом выла Григорьевна. Замолчали люди за столом. А я смотрела. И не лезла мне еда в рот. Всё смотрела я на гроб. И на людей, что пришли с другом и соседом проститься. И поверх запаха еды, на нос ложился тошный и душный дух гнилого тела. Мухи летали над Петром. И не было страшно, а противно. Зачем мы здесь?
- Может, пойдём домой, бабушка? – спросила я.
- Рано, сейчас, погоди, вот про пески послушаем и пойдём. Там, интересно.
- Интересно? – переспросила я.
- Малая, ложкой работай, - бесцеремонно вмешался в нашу речь незнакомый мужчина из-за стола - Молча слушай. Запоминай. Смекай – закончил и больно толкнул меня в плечо. Бледный мужик, видимо из отдыхающих. Я покосилась на него, бабушка ещё шире улыбнулась, и взяла блин со стола. Так взяла, как палач топор перед толпой поднимает, и править принимается. Затем, начала отламывать по куску, словно кормила невидимых пташек. Один кусок она бросала под стол, другой складывала в рот, и снова.
Григорьевна спела про всех жителей того света и популярные достопримечательности. И про Стеклянную Гору. И про Змия Огненного и Дуб. И про Калён мост. И про Смородинку. Люди, что в начале с почтением слушали, к концу нескончаемого получасового воя, изрядно подустали, иной зачинал петь «Ой, кто-то с горочки спустился», в надежде, что подхватят, и всё собрание избавится от концерта: «по следам этнографических исследований». Но сознательные, а возможно, просто приунывшие люди, не подпевали. А молча слушали, слушали старинный плач из седой глубины народной памяти. Наконец, и я дождалась строчки про песок:
Ой, развейся буря-падара!
Разнеси ты пески жёлтые!
Расступись-ко, Мать-сыра земля!
Расколись-ко, гробова доска!
Размахнитесь, белы саваны!
Отворитесь, очи ясные!
Погляди-ко, моя ладушка!
Григорьевна тянула дальше, и осеклась. Пётр поднялся, сел в гробу, выкинул цветы и спросил в тишине:
- Мать, а что это у всех налито, а я с цветами? Похороны что ли?
Удивительная прозорливость для покойника!
Григорьевна. Рачительный собиратель памятников средневековой песенной традиции, убежала первой, прихрамывая на все ноги, крестясь и невнятно творя все молитвы, которые, в минуту ужаса для неё сложились в одну. Только длинную и жалостливую. Если ли до того момента, Бог и был глух, то за искренность с какой обратилась плакальщица, нужно было чем-то вознаградить. За ней бежали те, кто сидел ближе к воротам. Отдыхающий, призывавший смекать, так и вовсе откинул накрытый стол, как былинку, и побёг, но не на улицу, а в огород, видимо рассудив, что нужно рассредоточится. Марина, пожилая женщина, потеряла сознание, и пропустила, всё веселье. Пётр, лёг обратно в гроб. Словно и не было ничего.
И только мы с бабушкой сидели на месте.
Я никак не могла понять, что же их так напугало? Мёртвый или живой? Что он сделает? Ну, встал! Звали же? И что это за обычай, звать, а потом пугаться? Разве вы не слышали, что гнусавила эта старушка столько времени? Если, считаете, что не гость он за вашим столом, нужно было молча. Выпили. Помянули. Зачем голосить? И некрасиво это. Что он теперь про вас подумает? Странные они, эти, люди.
- А теперь можно и домой – сказала, заметно повеселевшая бабушка, стряхнула начинку творожного пирога с платья, и мы побрели в обратный путь.
Её отец нас встретил, и через тын, сказал:
- Нету, ти, до Баркова дома пошла. Там ноне Петра хоронят. На поминках застанете.
Бабушка осмотрелась. Как видно, скорое возвращение домой не планировалось. И длинный путь через всю деревню, жар не охладил. И пошли, мы, прямёхонько на поминки.
В деревнях у всех свой устав, как хоронить, как провожать.
Широкий с трёх сторон закрытый двор. Решетка для винограда связывала две стороны, лоза заплела потолок, свисали прядями грозди плодов, недавно отцветшие, салатно-зелёные. На мощеном полу, стоял длинный стол, за которым сидели уже изрядно подвыпившие селяне. Нарядные. Женщины в белых шитых рубашках. Мужчины в темных брюках и светлых рубахах. Но гнетущий траурный цвет, словно забыл о событии, и не было его на тех поминках, как не было и кромешной черноты и безутешного горя. Дед Савелий, как мне представили сухого морщинистого старичка, сидел поодаль и наигрывал на гармошке. Не сказать, чтоб плясовую. Но и на слезу не пробивало. Наименование дед или тетка, как я скоро узнала, никакого родственного родства не подразумевают. Среди пестроты и улыбок, разглядели мы Наталью. Она сидела рядом с Мариной, «молодой» вдовой покойного Петра. Сам Петр, отчего-то лежал здесь же. На табуретках ютился гроб. Покойный в лучшем костюме, обложенный цветами. С глазами накрытыми монетками. Белый, как саван.
- Проходите, проходите, песен наших причитальных послухаете! – обрадовавшись новым гостям, сказала Григорьевна, хранитель старины, знавшая до последнего слова, наверное, больше сотни песен по каждому ритуальному поводу. Пётр и Марина были не местными. Как и Григорьевна, родом вышли, с северной части России.
Сели мы за стол. Подвинули нам, что самым вкусным считали. Бабушка села. Но видела я, что гнев её не оставляет. И не надо бы к людям. Но бабушка, словно менялась. Как от вина блестели её глаза. А Григорьевна затянула:
Темными лесами дремучими
Высокими горами толкучими
Дикими болотами и мхами дыбучими
За свирью-рекою свирепою,
Малыми круглыми озерышками,
Островами незнакомыми и берегами небывалыми, -
С каждой строчкой, голос плакальщицы становился всё ниже и дурнее, она продолжала:
Мелькают деревца шатучие суховерхие, рощицы еловые,
Горькие осинушки, курчавые березыньки, ракитовые кустики,
Малиновые прутики; а в них витают змеи клевучие и звери съедучие;
Встречу я заюшку загнанного, горностаюшка упалого, серого волка и звиря…
Страшным голосом выла Григорьевна. Замолчали люди за столом. А я смотрела. И не лезла мне еда в рот. Всё смотрела я на гроб. И на людей, что пришли с другом и соседом проститься. И поверх запаха еды, на нос ложился тошный и душный дух гнилого тела. Мухи летали над Петром. И не было страшно, а противно. Зачем мы здесь?
- Может, пойдём домой, бабушка? – спросила я.
- Рано, сейчас, погоди, вот про пески послушаем и пойдём. Там, интересно.
- Интересно? – переспросила я.
- Малая, ложкой работай, - бесцеремонно вмешался в нашу речь незнакомый мужчина из-за стола - Молча слушай. Запоминай. Смекай – закончил и больно толкнул меня в плечо. Бледный мужик, видимо из отдыхающих. Я покосилась на него, бабушка ещё шире улыбнулась, и взяла блин со стола. Так взяла, как палач топор перед толпой поднимает, и править принимается. Затем, начала отламывать по куску, словно кормила невидимых пташек. Один кусок она бросала под стол, другой складывала в рот, и снова.
Григорьевна спела про всех жителей того света и популярные достопримечательности. И про Стеклянную Гору. И про Змия Огненного и Дуб. И про Калён мост. И про Смородинку. Люди, что в начале с почтением слушали, к концу нескончаемого получасового воя, изрядно подустали, иной зачинал петь «Ой, кто-то с горочки спустился», в надежде, что подхватят, и всё собрание избавится от концерта: «по следам этнографических исследований». Но сознательные, а возможно, просто приунывшие люди, не подпевали. А молча слушали, слушали старинный плач из седой глубины народной памяти. Наконец, и я дождалась строчки про песок:
Ой, развейся буря-падара!
Разнеси ты пески жёлтые!
Расступись-ко, Мать-сыра земля!
Расколись-ко, гробова доска!
Размахнитесь, белы саваны!
Отворитесь, очи ясные!
Погляди-ко, моя ладушка!
Григорьевна тянула дальше, и осеклась. Пётр поднялся, сел в гробу, выкинул цветы и спросил в тишине:
- Мать, а что это у всех налито, а я с цветами? Похороны что ли?
Удивительная прозорливость для покойника!
Григорьевна. Рачительный собиратель памятников средневековой песенной традиции, убежала первой, прихрамывая на все ноги, крестясь и невнятно творя все молитвы, которые, в минуту ужаса для неё сложились в одну. Только длинную и жалостливую. Если ли до того момента, Бог и был глух, то за искренность с какой обратилась плакальщица, нужно было чем-то вознаградить. За ней бежали те, кто сидел ближе к воротам. Отдыхающий, призывавший смекать, так и вовсе откинул накрытый стол, как былинку, и побёг, но не на улицу, а в огород, видимо рассудив, что нужно рассредоточится. Марина, пожилая женщина, потеряла сознание, и пропустила, всё веселье. Пётр, лёг обратно в гроб. Словно и не было ничего.
И только мы с бабушкой сидели на месте.
Я никак не могла понять, что же их так напугало? Мёртвый или живой? Что он сделает? Ну, встал! Звали же? И что это за обычай, звать, а потом пугаться? Разве вы не слышали, что гнусавила эта старушка столько времени? Если, считаете, что не гость он за вашим столом, нужно было молча. Выпили. Помянули. Зачем голосить? И некрасиво это. Что он теперь про вас подумает? Странные они, эти, люди.
- А теперь можно и домой – сказала, заметно повеселевшая бабушка, стряхнула начинку творожного пирога с платья, и мы побрели в обратный путь.