2510
2
В 1990 г. несколько десятков офицеров советской тогда еще милиции, честно и до конца стоявшие на страже Конституции агонизировавшей сверхдержавы, думали, что им есть куда отступать.
Но «великой и могучей» Родины, на верность которой они присягали, в одночасье не стало. Закон вдруг оказался на стороне тех, кто еще совсем недавно его попирал. А демократические власти новой России от них, «неудобного» рижского ОМОНа, поспешили откреститься, попросту списав этих людей со счета. Справедливость, как водится, все же восторжествовала, но для этого понадобились годы.
Между молотом и наковальней
Шел 1988 год. Самым зримым «достижением» набиравшей обороты перестройки стал небывалый рост преступности, принимавшей все более организованный и угрожающий характер. С целью противодействия криминалу в столице советской Латвии Риге, как и в других городах тогдашнего СССР, на базе республиканского МВД создавался отряд милиции особого назначения. Спецподразделение, в состав которого вошли 120 молодых, но уже достаточно опытных сотрудников правоохранительных органов, было сформировано в кратчайшие сроки. На должность командира рижского ОМОНа назначили ветерана афганской войны майора милиции Чеслава Млынника, его заместителем стал капитан милиции Сергей Парфенов. Отряд подчинялся Министерству внутренних дел СССР и его республиканскому управлению в Латвии.
Задачи, которые стояли перед милицейским спецподразделением, заключались в борьбе с бандитизмом и спекуляцией дефицитными товарами, а также в пресечении уличных беспорядков. Со всем этим, кстати, омоновцы справлялись отлично, и спустя несколько месяцев уже один только вид принадлежавшей отряду машины отбивал у рижских правонарушителей всякое желание совершать что-либо противозаконное. Правда, порой милиционерам приходилось действовать достаточно жестко. Об одном из таких эпизодов вспоминает бывший боец отряда:
«Однажды взяли нелегального торговца с тремя ящиками водки и провели с ним воспитательную работу. Отвезли его на берег Даугавы, где сначала заставили «продезинфицировать» конфискованным спиртным нашу машину, а потом, как был, одетого отправили в заплыв. Направление показывали автоматными трассерами. Бедняга, конечно, натерпелся, но зато больше не спекулировал».
Впоследствии именно подобные случаи позволили пришедшим к власти латышским националистам обвинять сотрудников рижского ОМОНа в превышении служебных полномочий. Но как иначе можно было в той непростой политической обстановке предотвратить неминуемый криминальный взрыв? Иных вариантов никто предложить не мог . Новая латвийская национальная элита тогда была озабочена другим: власть союзного центра ослабевала с каждым днем, и удельные князьки старались не пропустить момент, вовремя подхватить выпущенные умирающим государством из рук бразды правления.
Большая политика обходила рижских омоновцев стороной вплоть до мая 1990 года. Состоявшиеся весной выборы в Верховный Совет Латвийской ССР принесли полную победу националистическому Народному фронту, члены которого получили 2/3 мест в законодательном органе республики. Имея конституционное большинство, народнофронтовцы могли вносить любые изменения в конституцию, чем и не преминули воспользоваться. На одном из первых заседаний парламента при поддержке 135 депутатов, то есть двух третей списочного состава ВС, была принята декларация о восстановлении суверенитета Латвии. В Кремле латышский демарш, конечно же, признали незаконным, но в самой республике обстановка обострилась еще больше. Отряд милиции под командованием майора Чеслава Млынника, вопреки всему продолжавший выполнять стоявшие перед ним задачи, был для Народного фронта словно кость в горле. Тем паче, что сотрудники рижского ОМОНа наотрез отказались присягать новым властям, заявив, что будут защищать действующую конституцию и выполнять только приказы министра внутренних дел СССР. Началась травля.
Задачи, которые стояли перед милицейским спецподразделением, заключались в борьбе с бандитизмом и спекуляцией дефицитными товарами, а также в пресечении уличных беспорядков. Со всем этим, кстати, омоновцы справлялись отлично, и спустя несколько месяцев уже один только вид принадлежавшей отряду машины отбивал у рижских правонарушителей всякое желание совершать что-либо противозаконное. Правда, порой милиционерам приходилось действовать достаточно жестко. Об одном из таких эпизодов вспоминает бывший боец отряда:
«Однажды взяли нелегального торговца с тремя ящиками водки и провели с ним воспитательную работу. Отвезли его на берег Даугавы, где сначала заставили «продезинфицировать» конфискованным спиртным нашу машину, а потом, как был, одетого отправили в заплыв. Направление показывали автоматными трассерами. Бедняга, конечно, натерпелся, но зато больше не спекулировал».
Впоследствии именно подобные случаи позволили пришедшим к власти латышским националистам обвинять сотрудников рижского ОМОНа в превышении служебных полномочий. Но как иначе можно было в той непростой политической обстановке предотвратить неминуемый криминальный взрыв? Иных вариантов никто предложить не мог . Новая латвийская национальная элита тогда была озабочена другим: власть союзного центра ослабевала с каждым днем, и удельные князьки старались не пропустить момент, вовремя подхватить выпущенные умирающим государством из рук бразды правления.
Большая политика обходила рижских омоновцев стороной вплоть до мая 1990 года. Состоявшиеся весной выборы в Верховный Совет Латвийской ССР принесли полную победу националистическому Народному фронту, члены которого получили 2/3 мест в законодательном органе республики. Имея конституционное большинство, народнофронтовцы могли вносить любые изменения в конституцию, чем и не преминули воспользоваться. На одном из первых заседаний парламента при поддержке 135 депутатов, то есть двух третей списочного состава ВС, была принята декларация о восстановлении суверенитета Латвии. В Кремле латышский демарш, конечно же, признали незаконным, но в самой республике обстановка обострилась еще больше. Отряд милиции под командованием майора Чеслава Млынника, вопреки всему продолжавший выполнять стоявшие перед ним задачи, был для Народного фронта словно кость в горле. Тем паче, что сотрудники рижского ОМОНа наотрез отказались присягать новым властям, заявив, что будут защищать действующую конституцию и выполнять только приказы министра внутренних дел СССР. Началась травля.
«Коммуно-фашистский» ОМОН
Именно так благодаря стараниям «свободных» прессы и телевидения рижских милиционеров в то время называли чуть ли не на каждом углу. Многие вскормленные перестройкой акулы пера вместе с пережитками «тоталитарной журналистики» легко расставались даже с последними остатками человеческой порядочности, не говоря уже о профессиональной этике. А пришедшим к власти латвийским сепаратистам нужен был образ врага, и они нашли его в лице парней из непокорного ОМОНа.
Первым втравить офицеров во внутриреспубликанские политические разборки попытался глава МВД Латвии Бруно Штейнбрик. 15 мая 1990 года он отдал милицейскому спецназу приказ разогнать демонстрацию сторонников Интерфронта, протестовавших против декларации о независимости Латвии. Сменивший его на министерском посту Алоиз Вазнис в нарушение действовавшего союзного законодательства 15 августа издал приказ о деполитизации всей системы органов внутренних дел республики, который омоновцы выполнять отказались.
Принятие Верховным Советом Латвии декларации о независимости привело к тому, что более чем на год республика погрузилась в хаос. Часть местной милиции, которая примкнула к Народному фронту, вместе с боевыми отрядами латышских националистов пыталась повсеместно насаждать законы самопровозглашенного государства. Все это, как и следовало ожидать, привело к стычкам между ОМОНом и вооруженными формированиями. Подчиненные майора Млынника неоднократно разоружали в Риге группировки городских боевиков, устраивали рейды против новоявленных таможен латышей на границе с РСФСР.
Руководство Латвии продолжало давить на Москву с требованиями «урезонить» омоновцев, мешавших окончательно развернуться представителям новой национальной элиты.
С наступлением нового, 1991, года обстановка в Риге накалилась еще больше. Стремительное развитие событий напоминало сход снежной лавины. 2 января бойцы рижского ОМОНа берут под охрану незаконно национализированное латвийской стороной издательство ЦК КП Латвии. Реакция следует незамедлительно: 17 января министр Вазнис издает приказ, разрешающий сотрудникам правоохранительного ведомства Латвии при охране объектов применять оружие «на поражение», недвусмысленно намекая при этом на успешную операцию подчиненных Чеслава Млынника. Ночью 20 января машины ОМОНа, проезжающие рядом со зданием МВД, обстреливают неизвестные. В ответ пятнадцать «черных беретов» буквально берут министерство на абордаж, разоружив при этом около сотни охраняющих его боевиков Народного фронта. Погибают пятеро рижан. Чьи пули их сразили в потемках – неизвестно. Прекрасно понимая, к каким последствиям может привести ночной бой в городе, милиционеры под огнем отступают к своему штабу, ощетинившемуся кольцом бетонных блоков, дзотов и штабелей мешков с песком. Потерь у ОМОНа нет.
Первым втравить офицеров во внутриреспубликанские политические разборки попытался глава МВД Латвии Бруно Штейнбрик. 15 мая 1990 года он отдал милицейскому спецназу приказ разогнать демонстрацию сторонников Интерфронта, протестовавших против декларации о независимости Латвии. Сменивший его на министерском посту Алоиз Вазнис в нарушение действовавшего союзного законодательства 15 августа издал приказ о деполитизации всей системы органов внутренних дел республики, который омоновцы выполнять отказались.
Принятие Верховным Советом Латвии декларации о независимости привело к тому, что более чем на год республика погрузилась в хаос. Часть местной милиции, которая примкнула к Народному фронту, вместе с боевыми отрядами латышских националистов пыталась повсеместно насаждать законы самопровозглашенного государства. Все это, как и следовало ожидать, привело к стычкам между ОМОНом и вооруженными формированиями. Подчиненные майора Млынника неоднократно разоружали в Риге группировки городских боевиков, устраивали рейды против новоявленных таможен латышей на границе с РСФСР.
Руководство Латвии продолжало давить на Москву с требованиями «урезонить» омоновцев, мешавших окончательно развернуться представителям новой национальной элиты.
С наступлением нового, 1991, года обстановка в Риге накалилась еще больше. Стремительное развитие событий напоминало сход снежной лавины. 2 января бойцы рижского ОМОНа берут под охрану незаконно национализированное латвийской стороной издательство ЦК КП Латвии. Реакция следует незамедлительно: 17 января министр Вазнис издает приказ, разрешающий сотрудникам правоохранительного ведомства Латвии при охране объектов применять оружие «на поражение», недвусмысленно намекая при этом на успешную операцию подчиненных Чеслава Млынника. Ночью 20 января машины ОМОНа, проезжающие рядом со зданием МВД, обстреливают неизвестные. В ответ пятнадцать «черных беретов» буквально берут министерство на абордаж, разоружив при этом около сотни охраняющих его боевиков Народного фронта. Погибают пятеро рижан. Чьи пули их сразили в потемках – неизвестно. Прекрасно понимая, к каким последствиям может привести ночной бой в городе, милиционеры под огнем отступают к своему штабу, ощетинившемуся кольцом бетонных блоков, дзотов и штабелей мешков с песком. Потерь у ОМОНа нет.
«Жандармы» всея Прибалтики
К весне 1991 года уже все три прибалтийские республики в одностороннем порядке провозгласили независимость. Еще 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы принял акт «О восстановлении независимости Литовского государств», отменяющий действие на территории республики Конституции СССР. В Эстонии 3 марта 1991 года был проведен референдум о независимости республики. Союзный центр выказывал полнейшее бессилие в борьбе с вялотекущим балтийским сепаратизмом.
В той ситуации, которая сложилась в регионе, единственной, по сути, ударной силой действовавшего закона оставался только рижский ОМОН. О несгибаемом духе «черных беретов» ходили слухи, которые нагоняли на удельных князьков почти мистический ужас. Передававшиеся из уст в уста, обраставшие откровенной ложью рассказы о «головорезах Млынника, не останавливающихся ни перед чем ради выполнения приказов Москвы», подхватили и растиражировали газетчики. Искусственно нагнетавшаяся истерия привела к тому, что любой выход отряда из места постоянной дислокации заставлял власти самопровозглашенных суверенных государств чуть ли ни поднимать «в ружье» все имевшиеся в их распоряжении силы.
Развязка наступила 19 августа 1991 года. В Москве захватил власть кремлевский ГКЧП во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым. Председатель Верховного Совета Латвии Анатолий Горбунов озвучил заявление парламента и Совета министров республики о захвате власти в СССР неконституционно созданным комитетом. Одновременно с этим министр-путчист Борис Пуго, выйдя на прямую связь с Чеславом Млынником, поставил перед рижским ОМОНом задачу: восстановить советский правопорядок в столице Латвии. Приказы офицеры не обсуждали. За двое суток омоновцы разоружили батальон латышских ополченцев, заняли столичный телеграф и здание МВД. Без сопротивления и людских жертв.
Напуганное московской заварухой руководство Латвии скрывалось в подвальном бункере бомбоубежища. 20 августа, в буквальном смысле слова из-под земли, прозвучало обращение Верховного Совета к сотрудникам милиции и других силовых ведомств. Депутаты требовали не оказывать содействия лицам и формированиям, выступавшим от имени ГКЧП, выполнять исключительно законы и постановления СМ и ВС Латвии. Но реально в тот момент вся полнота власти в Риге принадлежала отряду милиции специального назначения. В течение трех суток бойцы ОМОНа организовывали и несли на улицах Риги службу: патрулировали, поддерживали общественный порядок, охраняли телецентр, Дом печати, прокуратуру, другие объекты государственной важности.
Попытка государственного переворота в союзной столице потерпела фиаско, покончил жизнь самоубийством министр Пуго. А в городе на берегу Рижского залива несколько десятков милиционеров еще несколько дней добросовестно выполняли отданный приказ.
Даже когда отряд вернулся в свои казармы, латвийские власти по-прежнему продолжали опасаться омоновцев и в срочном порядке требовали от Кремля немедленного вывода спецподразделения на территорию России. Председатель Верховного Совета Латвии, премьер-министр, латвийский Совет безопасности даже опубликовали совместное заявление об их отказе привлечь к суду рижских омоновцев, если те покинут без боя суверенную республику. Истинную цену этих обещаний показало время.
В той ситуации, которая сложилась в регионе, единственной, по сути, ударной силой действовавшего закона оставался только рижский ОМОН. О несгибаемом духе «черных беретов» ходили слухи, которые нагоняли на удельных князьков почти мистический ужас. Передававшиеся из уст в уста, обраставшие откровенной ложью рассказы о «головорезах Млынника, не останавливающихся ни перед чем ради выполнения приказов Москвы», подхватили и растиражировали газетчики. Искусственно нагнетавшаяся истерия привела к тому, что любой выход отряда из места постоянной дислокации заставлял власти самопровозглашенных суверенных государств чуть ли ни поднимать «в ружье» все имевшиеся в их распоряжении силы.
Развязка наступила 19 августа 1991 года. В Москве захватил власть кремлевский ГКЧП во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым. Председатель Верховного Совета Латвии Анатолий Горбунов озвучил заявление парламента и Совета министров республики о захвате власти в СССР неконституционно созданным комитетом. Одновременно с этим министр-путчист Борис Пуго, выйдя на прямую связь с Чеславом Млынником, поставил перед рижским ОМОНом задачу: восстановить советский правопорядок в столице Латвии. Приказы офицеры не обсуждали. За двое суток омоновцы разоружили батальон латышских ополченцев, заняли столичный телеграф и здание МВД. Без сопротивления и людских жертв.
Напуганное московской заварухой руководство Латвии скрывалось в подвальном бункере бомбоубежища. 20 августа, в буквальном смысле слова из-под земли, прозвучало обращение Верховного Совета к сотрудникам милиции и других силовых ведомств. Депутаты требовали не оказывать содействия лицам и формированиям, выступавшим от имени ГКЧП, выполнять исключительно законы и постановления СМ и ВС Латвии. Но реально в тот момент вся полнота власти в Риге принадлежала отряду милиции специального назначения. В течение трех суток бойцы ОМОНа организовывали и несли на улицах Риги службу: патрулировали, поддерживали общественный порядок, охраняли телецентр, Дом печати, прокуратуру, другие объекты государственной важности.
Попытка государственного переворота в союзной столице потерпела фиаско, покончил жизнь самоубийством министр Пуго. А в городе на берегу Рижского залива несколько десятков милиционеров еще несколько дней добросовестно выполняли отданный приказ.
Даже когда отряд вернулся в свои казармы, латвийские власти по-прежнему продолжали опасаться омоновцев и в срочном порядке требовали от Кремля немедленного вывода спецподразделения на территорию России. Председатель Верховного Совета Латвии, премьер-министр, латвийский Совет безопасности даже опубликовали совместное заявление об их отказе привлечь к суду рижских омоновцев, если те покинут без боя суверенную республику. Истинную цену этих обещаний показало время.
Предательство
Договоренность о передислокации рижского ОМОНа с Москвой все же была достигнута. Некоторые из бойцов отряда решили остаться в Латвии, большинство же приняли приглашение российской стороны. Слава о «черных беретах» как о профессионалах своего дела и людях, знающих, что такое долг, летела впереди них. Потому и посыпались, словно из рога изобилия, предложения о работе в ЮАР, Японии, Канаде. Но ребята отказались от этих заманчивых перспектив, предпочтя заморским странам российскую Сибирь. Причин тому было несколько, и одна из главных – занимавший тогда пост главы администрации Тюмени Геннадий Райков оказался единственным, кто согласился принять отряд полностью. А дробить подразделение, вернее то, что от него осталось, ни Млынник, ни Парфенов не хотели.
1 сентября в Риге приземлились российские Илы-76, которые и увезли омоновцев подальше отсюда в сибирскую Тюмень. Подчиненные майора Млынника стали одними из первых изгоев признанной уже к тому времени суверенной Латвии. Передислокацией отряда руководил сам командир. К новому месту службы ребята прибыли при всем своем, вплоть до автомобилей, среди которых были несколько уазиков и рафов. Отряд Млынника и Парфенова включили в состав областного ОМОНа. Рижанам надлежало теперь ловить сибирских бандитов, наркодельцов, спекулянтов золотом. Работу свою бойцы знали от и до, поэтому кривая пресеченных правонарушений в тюменском УВД поползла вверх.
Но у прошлого оказались длинные руки. Антиомоновская вакханалия в тюменской прессе, начавшаяся со дня их прибытия на сибирскую землю, уже спустя несколько месяцев перешла всякие границы. С газетных полос грязь и клевета лились на рижан полноводными реками. А вскоре в воздухе запахло предательством.
В Российской Федерации, еще 24 августа объявившей о своей независимости, шла незримая для большинства сограждан «охота на ведьм». Несмотря на то, что высокопоставленные зачинщики-путчисты находились за решеткой, новые российские власти продолжали выявлять их пособников по всей стране. Вопрос «где вы были в ночь с 19 на 21» многие воспринимали как шутку, но, как известно, в каждой шутке… И снова, уже на своей земле, сотрудники рижского ОМОНа стали заложниками политических игрищ.
Правительство Латвии вопреки своему обещанию мирно отпустить изгнанников обратилось к президенту Ельцину с просьбой о выдаче «преступников из так называемого рижского ОМОНа». Отмашку из Москвы дали: от одиозных, скомпрометировавших себя связью с государственными изменниками, милиционеров здесь тоже хотели поскорее избавиться. О том, что офицеры просто выполняли свой долг и честно стояли на страже действовавших законов, а не вертелись, словно флюгеры на политических ветрах, за кремлевскими стенами не задумался тогда никто.
С ведома российских властей в Тюмень из Риги секретно прибыла латышская «группа захвата». Ордер на арест и депортацию в Латвию рижских омоновцев санкционировали российский генеральный прокурор Валентин Степанков и министр внутренних дел России генерал Андрей Дунаев.
Накануне «отлова рижан» их тайно предупредили об этом милицейские доброжелатели из Москвы. И преданные Кремлем переселенцы успели уйти в подполье, а вскоре разъехаться кто куда. Майор Млынник обрел анонимное убежище в Ленинградской области. Многие перекочевали в Приднестровье, другие отправились воевать в Абхазию, Закавказье и даже на Балканы к сербам. Не пытался скрыться лишь Сергей Парфенов. Он наивно полагал, что ему, не совершившему ничего противоправного, бояться нечего, тем более на своей земле. Но гражданина России выдали представителям иностранного государства без суда и следствия, вопреки всем действующим законам. Он был арестован рижскими следователями во время служебной командировки в Сургут: наручники офицеру надели прямо в кабинете начальника местного УВД.
Осенью 1992 года в Риге начался суд над Парфеновым. В обвинительном акте говорилось, что на заместителя командира отряда возлагается личная ответственность за январское и августовское кровопролития в Риге в 1991 году. Но спустя двенадцать месяцев тюремных допросов и очных ставок предварительное следствие смогло инкриминировать Парфенову лишь «превышение служебных полномочий». Причем те, кто наспех «шил» это насквозь политическое дело, обосновали обвинение смехотворным фактом: в октябре 1990 года омоновцы по заданию городских властей ловили рыночных спекулянтов водкой, поймали пятерых, разбили их бутылки, а самих барыг поколотили и заставили искупаться в Рижском заливе.
15 марта 1993 года латвийский суд приговорил Парфенова к 4 годам тюремного заключения. Спустя месяц Генеральная прокуратура России, разработав с латышами юридическую процедуру обмена заключенных, вынесла на обсуждение и ратификацию Верховным Советом новый «Договор между Российской Федерацией и Латвийской республикой о передаче осужденных для отбывания наказания». Среди первых семи российских граждан, выпущенных из латвийских тюрем, был и бывший замкомандира рижского ОМОНа. Утром 6 августа на перроне Рижского вокзала в Москве большая толпа шумно встречала пассажира поезда, прибывшего из Великих Лук. Его обнимали, целовали, дарили цветы, фотографировались с ним на фоне приветственных транспарантов, один из которых сурово гласил: «Позор предателям, выдавшим советского офицера иностранной охранке!». С освобождением капитана Парфенова точка в деле рижских омоновцев поставлена не была. Аресты бойцов ставшего к тому времени уже самым известным спецподразделения советской милиции продолжались.
В начале 1994 года по обвинению в незаконном ношении оружия был арестован командир отряда майор милиции Чеслав Млынник.
В 1999 году десять бывших омоновцев обвинялись в уничтожении таможенных пунктов на границе с Россией, захвате здания МВД и телецентра в Риге, а также в избиении людей и условно осуждены на сроки от полутора до четырех лет лишения свободы, а в 2004 к условным срокам были приговорены ещё двое.
В декабре 1999 года, в начале второй Чеченской кампании, бывший рижский омоновец, Гвардии капитан Д. Машков был награжден медалью Суворова за участие в успешной операции. В 2000 году по ложному доносу был арестован Полицией Безопасности Латвии по подозрению в организации взрыва в Рижской хоральной синагоге в 1998 году и убийстве Председателя коллегии по уголовным делам Яниса Лаукрозе.
В 2011 году Литовский суд приговорил бывшего бойца рижского ОМОНа Константина Михайлова (Никулина) к пожизненному заключению по обвинению в убийстве литовских пограничников в июле 1991. Михайлов свою вину не признал. Европейские ордера на арест выданы также на Александра Рыжова, Андрея Локтионова и Чеслава Млынника.
Но дух отряда остался жив. Он проявил себя во многих горячих точках пост–советского пространства. Так, в 1992 году отряд добровольцев под командованием Чеслава Млынника, преодолев сопротивление превосходящего противника, захватили стратегически важный мост в Верхних Эшерах, а затем с ходу овладели господствующей высотой. За этот подвиг добровольцы были представлены абхазским руководством к наградам, а Ч.Млынник к высшей награде республики - ордену «Леона». Впоследствии Чеслав Млынник участвовал в локальных конфликтах в Азербайджане и Югославии, а в 2000 году приказом МО РФ ему было присвоего воинское звание полковника.
Многие бойцы составили основу специального батальона «Днестр» в Приднестровье. География мест, где воевали бывшие омоновцы Риги обширна: Карабах, Приднестровье, Абхазия, Югославия, Чечня, Ингушетия, Дагестан и т.д. и .тп.
Потери боевые (общие):
– милиционер Сергей Кононенко – убит (Рига, январь 1991г)
– милиционер Владимир Гомонович – убит (Рига, январь 1991г)
– бывший боец Рижского ОМОН старшина Сергей Мерешко – убит (Югославия, сентябрь 1992г)
– бывший старшина Рижского ОМОН Александр Беляк – убит (Абхазия, 1993г.)
– бывший боец Рижского ОМОН Альфред Залялов – ранен, остался без ног (Абхазия, 1993г.)
Про других бывших рижских омоновцев, погибших и раненых, на фронтах разных стран и миров мне, к сожалению, ничего не известно. Кто–то погиб на криминальных фронтах, это тоже не редкость для бывших омоновцев. Известно, что в октябре 1993 года некоторые бывшие бойцы защищали Белый дом в Москве.
1 сентября в Риге приземлились российские Илы-76, которые и увезли омоновцев подальше отсюда в сибирскую Тюмень. Подчиненные майора Млынника стали одними из первых изгоев признанной уже к тому времени суверенной Латвии. Передислокацией отряда руководил сам командир. К новому месту службы ребята прибыли при всем своем, вплоть до автомобилей, среди которых были несколько уазиков и рафов. Отряд Млынника и Парфенова включили в состав областного ОМОНа. Рижанам надлежало теперь ловить сибирских бандитов, наркодельцов, спекулянтов золотом. Работу свою бойцы знали от и до, поэтому кривая пресеченных правонарушений в тюменском УВД поползла вверх.
Но у прошлого оказались длинные руки. Антиомоновская вакханалия в тюменской прессе, начавшаяся со дня их прибытия на сибирскую землю, уже спустя несколько месяцев перешла всякие границы. С газетных полос грязь и клевета лились на рижан полноводными реками. А вскоре в воздухе запахло предательством.
В Российской Федерации, еще 24 августа объявившей о своей независимости, шла незримая для большинства сограждан «охота на ведьм». Несмотря на то, что высокопоставленные зачинщики-путчисты находились за решеткой, новые российские власти продолжали выявлять их пособников по всей стране. Вопрос «где вы были в ночь с 19 на 21» многие воспринимали как шутку, но, как известно, в каждой шутке… И снова, уже на своей земле, сотрудники рижского ОМОНа стали заложниками политических игрищ.
Правительство Латвии вопреки своему обещанию мирно отпустить изгнанников обратилось к президенту Ельцину с просьбой о выдаче «преступников из так называемого рижского ОМОНа». Отмашку из Москвы дали: от одиозных, скомпрометировавших себя связью с государственными изменниками, милиционеров здесь тоже хотели поскорее избавиться. О том, что офицеры просто выполняли свой долг и честно стояли на страже действовавших законов, а не вертелись, словно флюгеры на политических ветрах, за кремлевскими стенами не задумался тогда никто.
С ведома российских властей в Тюмень из Риги секретно прибыла латышская «группа захвата». Ордер на арест и депортацию в Латвию рижских омоновцев санкционировали российский генеральный прокурор Валентин Степанков и министр внутренних дел России генерал Андрей Дунаев.
Накануне «отлова рижан» их тайно предупредили об этом милицейские доброжелатели из Москвы. И преданные Кремлем переселенцы успели уйти в подполье, а вскоре разъехаться кто куда. Майор Млынник обрел анонимное убежище в Ленинградской области. Многие перекочевали в Приднестровье, другие отправились воевать в Абхазию, Закавказье и даже на Балканы к сербам. Не пытался скрыться лишь Сергей Парфенов. Он наивно полагал, что ему, не совершившему ничего противоправного, бояться нечего, тем более на своей земле. Но гражданина России выдали представителям иностранного государства без суда и следствия, вопреки всем действующим законам. Он был арестован рижскими следователями во время служебной командировки в Сургут: наручники офицеру надели прямо в кабинете начальника местного УВД.
Осенью 1992 года в Риге начался суд над Парфеновым. В обвинительном акте говорилось, что на заместителя командира отряда возлагается личная ответственность за январское и августовское кровопролития в Риге в 1991 году. Но спустя двенадцать месяцев тюремных допросов и очных ставок предварительное следствие смогло инкриминировать Парфенову лишь «превышение служебных полномочий». Причем те, кто наспех «шил» это насквозь политическое дело, обосновали обвинение смехотворным фактом: в октябре 1990 года омоновцы по заданию городских властей ловили рыночных спекулянтов водкой, поймали пятерых, разбили их бутылки, а самих барыг поколотили и заставили искупаться в Рижском заливе.
15 марта 1993 года латвийский суд приговорил Парфенова к 4 годам тюремного заключения. Спустя месяц Генеральная прокуратура России, разработав с латышами юридическую процедуру обмена заключенных, вынесла на обсуждение и ратификацию Верховным Советом новый «Договор между Российской Федерацией и Латвийской республикой о передаче осужденных для отбывания наказания». Среди первых семи российских граждан, выпущенных из латвийских тюрем, был и бывший замкомандира рижского ОМОНа. Утром 6 августа на перроне Рижского вокзала в Москве большая толпа шумно встречала пассажира поезда, прибывшего из Великих Лук. Его обнимали, целовали, дарили цветы, фотографировались с ним на фоне приветственных транспарантов, один из которых сурово гласил: «Позор предателям, выдавшим советского офицера иностранной охранке!». С освобождением капитана Парфенова точка в деле рижских омоновцев поставлена не была. Аресты бойцов ставшего к тому времени уже самым известным спецподразделения советской милиции продолжались.
В начале 1994 года по обвинению в незаконном ношении оружия был арестован командир отряда майор милиции Чеслав Млынник.
В 1999 году десять бывших омоновцев обвинялись в уничтожении таможенных пунктов на границе с Россией, захвате здания МВД и телецентра в Риге, а также в избиении людей и условно осуждены на сроки от полутора до четырех лет лишения свободы, а в 2004 к условным срокам были приговорены ещё двое.
В декабре 1999 года, в начале второй Чеченской кампании, бывший рижский омоновец, Гвардии капитан Д. Машков был награжден медалью Суворова за участие в успешной операции. В 2000 году по ложному доносу был арестован Полицией Безопасности Латвии по подозрению в организации взрыва в Рижской хоральной синагоге в 1998 году и убийстве Председателя коллегии по уголовным делам Яниса Лаукрозе.
В 2011 году Литовский суд приговорил бывшего бойца рижского ОМОНа Константина Михайлова (Никулина) к пожизненному заключению по обвинению в убийстве литовских пограничников в июле 1991. Михайлов свою вину не признал. Европейские ордера на арест выданы также на Александра Рыжова, Андрея Локтионова и Чеслава Млынника.
Но дух отряда остался жив. Он проявил себя во многих горячих точках пост–советского пространства. Так, в 1992 году отряд добровольцев под командованием Чеслава Млынника, преодолев сопротивление превосходящего противника, захватили стратегически важный мост в Верхних Эшерах, а затем с ходу овладели господствующей высотой. За этот подвиг добровольцы были представлены абхазским руководством к наградам, а Ч.Млынник к высшей награде республики - ордену «Леона». Впоследствии Чеслав Млынник участвовал в локальных конфликтах в Азербайджане и Югославии, а в 2000 году приказом МО РФ ему было присвоего воинское звание полковника.
Многие бойцы составили основу специального батальона «Днестр» в Приднестровье. География мест, где воевали бывшие омоновцы Риги обширна: Карабах, Приднестровье, Абхазия, Югославия, Чечня, Ингушетия, Дагестан и т.д. и .тп.
Потери боевые (общие):
– милиционер Сергей Кононенко – убит (Рига, январь 1991г)
– милиционер Владимир Гомонович – убит (Рига, январь 1991г)
– бывший боец Рижского ОМОН старшина Сергей Мерешко – убит (Югославия, сентябрь 1992г)
– бывший старшина Рижского ОМОН Александр Беляк – убит (Абхазия, 1993г.)
– бывший боец Рижского ОМОН Альфред Залялов – ранен, остался без ног (Абхазия, 1993г.)
Про других бывших рижских омоновцев, погибших и раненых, на фронтах разных стран и миров мне, к сожалению, ничего не известно. Кто–то погиб на криминальных фронтах, это тоже не редкость для бывших омоновцев. Известно, что в октябре 1993 года некоторые бывшие бойцы защищали Белый дом в Москве.
реклама

































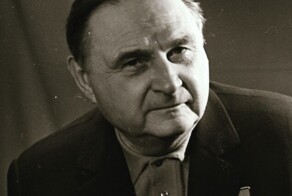


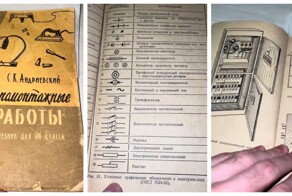

























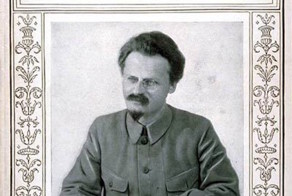
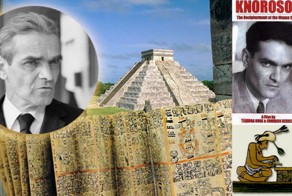

пипец как много на фишках дол6оёо6ов развелось..
14 января бойцы ОМОНа совершают ряд нападений на участников баррикад у мостов Браса и Вецмилгравис: избиты несколько человек, сожжено 17 автомобилей. 15 января ОМОН совершил два нападения на Рижский филиал Минской Высшей школы милиции, в ходе которых были избиты курсанты, разгромлены помещения и похищено оружие. 16 января на баррикадах у Вецмилгравского моста омоновцы расстреляли шофера министерства сообщения Роберта Мурниекса и ранили ещё двоих человек. 18 января Министр внутренних дел Латвии Алоис Вазнис выслал в МВД СССР свой приказ о том, что по бойцам ОМОНа, которые приближаются к объектам МВД Латвии ближе 50 метров, разрешено открывать огонь на поражение.
Одни, будучи верными присяге, пытались силой и оружием сохранить Латвию в составе СССР, другие, будучи полностью уверенными в невозможности договориться мирно, решили их просто устранить. Не поддерживаю ни одну из сторон.
Их не родина предала, а жополизы пиндосские к власти и кормушке рвавшиеся.
И нынешние либерасты этого хотят, и, если дорвутся, то устроят то же самое.