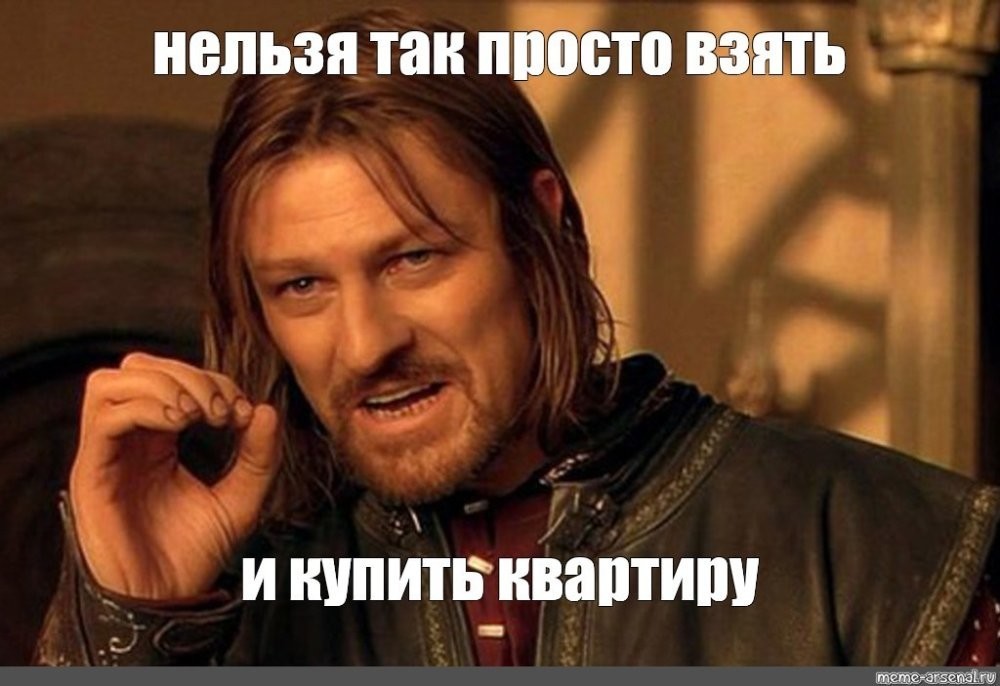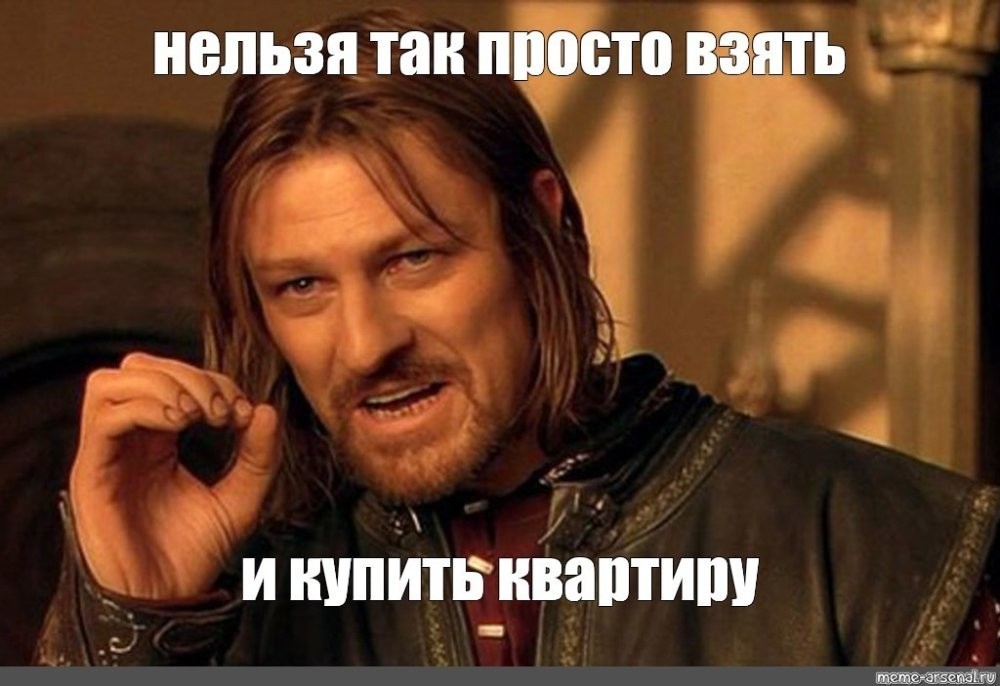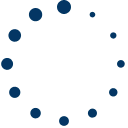9710
Чижик-пыжик
 На зятя своего, Борю, Серафима Павловна пожаловаться не могла. Зять был непьющий, добрый, даже пенсию тещину в семейный бюджет не включал. «Вы эти деньги себе на черный день собирайте, мама», – ласково говорил он. И Серафима с грустью думала, что она, когда этот день, не дай Б-г, настанет, благодаря Бориным заботам будет богата, как никогда в жизни.
На зятя своего, Борю, Серафима Павловна пожаловаться не могла. Зять был непьющий, добрый, даже пенсию тещину в семейный бюджет не включал. «Вы эти деньги себе на черный день собирайте, мама», – ласково говорил он. И Серафима с грустью думала, что она, когда этот день, не дай Б-г, настанет, благодаря Бориным заботам будет богата, как никогда в жизни.
Сам же Борис зарабатывал много, хотя еще при знакомстве Серафима никак не могла понять, что это за профессия такая – нападающий, и Аллочке пришлось объяснять ей, что по профессии Боря – инженер, но работать он начнет позже, когда кончит играть. А до того времени, объяснял Боря, нужно успеть и одеться как следует, и мир посмотреть, и квартиру обставить мебелью...
– Так ведь она у нас и так обставлена, – искренне удивлялась Серафима. – Вот шкаф стоит, кровать, пианино, этажерка, и еще есть три стула, просто их сейчас не видно, потому что мы на них сидим!..
– Ах, мама, – задушевно отвечал Боря, – может быть, это и кровать или, как вы говорите, этажерка, но только все это не мебель. Мебель – это совсем другое! Ну ничего, положитесь на меня, и через пару лет вы свою собственную квартиру уже не узнаете...
За каждый забитый гол зятю платили премию, и играл он, пока собирали на мебель, очень результативно. Первой из квартиры исчезла кровать, которую Серафима подарила Аллочке в качестве приданого, – и в тот же день Боря привез из магазина ящик, в котором оказалась дюжина полированных досок, огромная плюшевая подушка и примерно полведра шурупов устрашающего размера, вымазанных машинным маслом.
Появление этого добра Серафима встретила спокойно – в конце концов, спать на этих шурупах предстояло не ей. Значительно тяжелее было расставаться со старым трехстворчатым шкафом. Он напоминал молодость и уютные вечеринки с чаем, семечковой халвой и соседями. На этих вечеринках у каждого был свой «номер», в том числе и у шкафа: в самый разгар веселья, когда сосед Эдуард Евтихиевич начинал рассказывать леденящие душу истории про покойников (он был сторожем на кладбище и часто сталкивался с ними по работе), дверь шкафа безо всякой видимой причины с таинственным скрипом открывалась. Все замирали на своих местах, с ужасом ожидая, что же будет дальше. Но дальше не происходило ничего, и старый шкаф в такие минуты становился похожим на слегка выжившего из ума дедушку, который хотел развлечь гостей веселым фокусом, но помнил его только до половины...
Теперь «дедушку» решили поменять на «Хельгу». Копили на нее довольно долго, и когда до нужной суммы оставалось забить всего один гол, Боря пригласил на матч всю семью. И Серафима видела, как он забил его, и вся команда обнимала зятя, и тысячи совершенно незнакомых людей на трибунах целовали друг друга, будто радовались, что теперь наконец у Бори будет полный гарнитур.
Утром следующего дня состоялся разговор, которого Серафима давно ждала и боялась.
– Ну вот, – сказал Боря, удовлетворенно оглядев комнату, – а туда мы поставим торшер-бар, – и он указал на угол, где стояло пианино.
– Какой такой «торшер-бар»? – испуганно спросила Серафима, неуверенно выговорив незнакомое слово. – А инструмент куда?! Инструмент куда денем, Боренька?!
– Да поймите, мама, – уговаривал зять, – у нас тахта новая, «Хельга», к нам интеллигентные люди в гости ходят, а тут этот гроб с музыкой! Просто смешно, честное слово... Ну зачем вам эта рухлядь?!
– А этот... торшер-бар нам зачем? – упорствовала Серафима.
– Чтобы вино ставить, – объяснял Боря.
– Так ведь у нас никто не пьет...
– А торшер – чтобы книжки читать, – объясняла Аллочка.
– Так ведь у нас никто не читает...
– Ну, знаете!.. – отрезал зять. – На пианино у нас, слава Б-гу, тоже никто не играет! И вообще, я уже объявления повесил, сегодня покупатели придут.
И он ушел на тренировку.
– Не расстраивайся, мамуля, – сказала Аллочка и, подхватив на руки двухлетнего Сержика, понесла его на английский. А Серафима, оставшись одна, начала вспоминать всякое и расстраиваться.
Это было очень давно, как будто в другой Серафиминой жизни. В той жизни была она маленькой девочкой, и был у нее папа, путевой обходчик, человек добрый, но глубоко пьющий. И еще был старый, поросший бурьяном сад, откуда летними вечерами доносилась волшебная музыка. Серафима знала, что если в такой вечер пробраться в конец сада, то сквозь щель в заборе можно увидеть, как на веранде соседской дачи играет на пианино молодая женщина.
Серафима слушала, затаив дыхание. Отец однажды, увидев ее в такую минуту, поклялся бросить пить и на вырученные деньги приобрести инструмент, чтобы она училась. Но в тот же день от радости, что принял столь благородное решение, так напился, что чуть не пустил под откос товарный поезд.
Так что пианино было куплено уже гораздо позже, когда Серафиминой Аллочке исполнилось семь лет, и алиментов, которые накопились за это время, как раз хватило на покупку инструмента.
– Видите ли, – объяснял ей в конце первого учебного года Аллочкин учитель, высокий мужчина с тонкими, нервными пальцами виртуоза-неудачника, – теоретически игре на фортепиано можно обучить каждого. Но примерно один раз в сто лет рождается человек, которого учить не нужно. Он и сам все умеет. Например, Ференц Лист. И так же редко рождаются люди, которых тоже учить не нужно, потому что научить их просто невозможно. Например, Аллочка...
Только через много лет опять возникла надежда. Сержик был мальчиком способным. Это стало ясно с первых месяцев. Но зять сразу положил конец всем тещиным планам.
– Значит, так, – определил он, – английский, французский, фигурное катание, бокс – и все! Хватит. Нечего портить мальчику детство...
В общем, как ни крути, выходило, что пианино в доме уже ни к чему. Но согласиться с тем, что его нужно продать, Серафима Павловна никак не могла. Ну, не могла – и все... «Если кто придет, скажу – продали», – решила она.
И тут ее размышления прервал звонок. За дверью стояла Леська – восьмилетний плод греховной любви черноволосой, похожей на молодую ведьму красавицы-дворничихи из их дома. Ведьма с дочкой вдвоем приехали из села всего год назад, но сейчас в дворницкой в ожидании городских квартир уже теснилась вся их многочисленная родня.
– Здрасьте, – сказала Леська. – Я по объявлению. Это вы продаете пианино в хорошем состоянии?
–А ты что же – купить хочешь? – спросила Серафима.
– Та откуда ж у нас гроши? – хитро прищурилась Леська. – Я поиграть хотела, пока вы его не продали...
– А ты умеешь?
– Угу... – серьезно сказала Леська – и стала играть. И Серафима с первых же звуков почувствовала, что сейчас ей предстоит испытать то же самое, что и тогда, давным-давно, в заброшенном саду, оставшемся где-то в ее другой жизни.
– Где ж ты так научилась, Г-споди? – спросила она, когда все кончилось. – У вас же и инструмента-то нету?..
– Подумаешь! – махнула рукой Леська. – А я стол расчертила. Получилось как клавиши, очень удобно... А потом еще в музыкалке по вечерам...
И она опять начала играть, а Серафима – слушать.
Незаметно подкрался вечер, и, когда Леська собралась уходить, Серафима, совершенно неожиданно для себя, вдруг предложила:
– А хочешь, я тебе это пианино подарю?..
– Хочу... – очень тихо сказала Леська.
– Так считай, что оно твое...
– Ой, спасибо! – засуетилась Леська. – Так я сейчас сбегаю дядьев позову, чтобы снесли...
– Подожди, – робко попросила Серафима, – ты меня, это... научи играть что-нибудь простенькое, если можно...
– Конечно, можно, тетечка, вот хотя бы «Чижик-пыжик». Это совсем просто... Вот, смотрите: прямо над замочком две клавиши через одну: чи-жик, пы-жик – запомнили? А теперь первая справа от замочка и вниз: где-ты-был?.. А дальше...
– Хватит! – взмолилась Серафима. – Дай Б-г хоть это выучить...
И Леська убежала. А Серафима начала играть «Чижика», и играла его очень долго, бессчетное количество раз, и, может, оттого ей вдруг показалось, что уже не она играет, а сам этот таинственный ящик задает ей простой и глупый вопрос: «Где ты был?.. Где ты был?.. Где же ты был, чижик?..»
Потом пришли Аллочка с Сержиком.
– Продала?! – радостно спросила дочка, еще с порога заметив, что пианино нет. – Вот умница! Представляешь, а мы как раз торшер-бар достали! Боря его в магазине караулит, а я хотела в сберкассу за деньгами... Но теперь уже не надо, раз пианино продано... Давай скорее, мамочка!
И Серафима Павловна, не говоря ни слова, пошла в соседнюю комнату и вынесла оттуда деньги, приготовленные на черный день.
(с) Георгий Голубенко
Попадос Семеныча
 В тот день Семеныч неожиданно вернулся с улицы неотпижженым. Это само по себе нехуйово настораживало, а когда он зашёл на кухню, залпом въебал из горла целых полтора глотка водки и, покашляв пару минут, улыбнулся во все свои четыре с половиной зуба, стало окончательно ясно: к нашему многострадальному дому, похрюкивая от предвкушения, уже вовсю приближается очередной пиздец модели «здрасьте, а я к Семенычу»…
В тот день Семеныч неожиданно вернулся с улицы неотпижженым. Это само по себе нехуйово настораживало, а когда он зашёл на кухню, залпом въебал из горла целых полтора глотка водки и, покашляв пару минут, улыбнулся во все свои четыре с половиной зуба, стало окончательно ясно: к нашему многострадальному дому, похрюкивая от предвкушения, уже вовсю приближается очередной пиздец модели «здрасьте, а я к Семенычу»…
И точно – в следующую секунду Семеныч растянул свою мегалыбу ещё шире (я её когда на ночь вспоминаю, до сих пор без клеенки спать не ложусь), перегнулся через стол и доверительно прошамкал: «Саныч, ты охуеешь – я через агентство с бабой познакомился! Вечером в гости придет». Я не то чтобы охуел, я блять вместе с котлетой чуть полвилки не откусил и водкой подавился, а этот горбатый меня даже по спине не похлопал. Засвистел какую-то хуйню и приплясом в комнату свою съебался. Казанова блять недобитый.
Я кое-как откашлялся и попытался представить себе, что за самка могла клюнуть на этот оживший кошмар генного инженера. Варианта было всего два: либо у неё должно быть ниибаццо большое и доброе сердце – либо ниибаццо большая и страшная тушка. Вспомнив ещё раз Семенычеву улыбку, я понял, что про вариант с сердцем по-любому придётся забыть: не может же быть, чтобы женщина полностью состояла из сердца, весила пятьсот килограмм и при этом еще могла бы с кем-то знакомиться. Так что не оставалось мне ничего другого, как вслушиваться в Семенычев свист (который пиздец как напоминал брачную песнь обкурившегося ужа) и тихо бояться приближающегося вечера.
Оказалось, зря боялся. Надо было не бояться, а вещи собирать и в лес, к партизанам съебываться. Где-то около семи вечера в прихожей раздался звонок, и буквально через пару секунд два глухих удара в дверь. С потолка посыпалась побелка и всякие пауки, со стены сорвался и недоуменно повис на одном гвозде портрет Товарища Че, даже вечно тарахтящий холодильник в прихожей вдруг пару раз чихнул и замолчал. И только контуженный дедок из соседней квартиры вдруг забыл про свою немоту и завопил про каких-то йобанных Гансов, йобанного старшину и йобанную атаку, но тут раздался ещё один удар и дедок замолчал, а охуевшая дверь, решив что лучше позор чем смерть, сдалась и распахнулась. В проеме на фоне освещенного коридора чернел силуэт. Не, не так: чернел Силуэтище блять.
Постояв без движения секунд пять, гостья тихо пробасила «Ыы, чобля, спите все чтоли…» и вдруг заорала: «Сё-о-ома, тыгдебля-а-а?!». От её крика у меня пиздец как заложило уши и почему-то потемнело в глазах. Сначала я так и подумал: Всё, БС, пиздец - полопались нахуй твои глазки, прощай любимая порнуха; но потом разглядел слабый свет с улицы и понял, что полопались всего лишь лампочки в парадной. А я же темноты и так с детства боюсь, а тут ещё с Этим на расстоянии грамотного рывка… Так бы я наверно и скончался там рано поседевшим зассанцем, если бы из последних сил всё же не нащупал выключатель и не включил свет в прихожей. И тут же пожалел об этом: если бы Колю Валуева скрестить с Ющенко и с рождения кормить чистым протеином пополам с диоксидом, то выросшая лет через тридцать хрень как раз и сошла бы за родственника вечерней гостьи. Только помельче и посимпатичней децл. Незамутненные сознанием глазки гостьи до ахуения быстро адаптировались к переходам «песдец как темно – я ебу как светло» и цепко скрестились где-то в районе моей переносицы. А я, почувствовав резкий позыв ломануться куда-нибудь до ближайшего толчка, вдруг понял, что мои собственные ноги предали меня и совершенно забили хуй на все мои команды типа «Съёбываемся, блять!». Гостья медленно двинулась в мою сторону…
И тут из своей комнаты наконец-таки выпорхнул Семеныч – в хуй пойми из какого музея спижженом костюме в крупную чёрно-белую полоску (на два размера меньше чем надо), все двадцать четыре волоса залакированы «под Гитлера», а лицо густо излеплено клочками газеты на израненной в сражениях с бритвой коже. Семёныч меня опять удивил: вместо того, чтобы обосраццо от открывшегося зрелища, он вдруг включил свою неотразимую лыбу и шагнул к чудищу навстречу, протягивая трясущиеся от нетерпения ручонки. «Саныч, знакомься – это Зина. Зина, знакомься – это Саныч» - гундосо протараторил Семёныч и попытался обнять свою новую подругу, но пальцы его так и не смогли сцепиться – не хватило всего каких-то полметра. «Зина» - пробасила Зина и резким движением схватила мою неосторожно протянутую ладонь. По квартире поплыл отчетливый скрип костей и мое тихое поскуливание. Адским усилием мне все же удалось вызволить свою руку из плена и отбежать на безопасное расстояние, но Зина почему-то не бросилась за мной чтобы добить и съесть, а повернулась к Семенычу и ласково пробасила: «Ну чё, Сёма, показывай, где тут наша комнатабля, гыгы». И, ободряюще улыбнувшись, слегка хлопнула его по плечу.
Семёныч вдруг исчез. Только что он стоял передо мной и счастливо лыбился – и вдруг его уже нет. Только кусочки газеты с ебанутым видом типа «А куда это делось Семенычево еблище?» сиротливо кружась в воздухе, тихо опускаются на пол. А я стою с не менее ебанутым выражением на лице и тоже не могу вкурить: а куда это оно в самом деле делось? На счастье для моей и без того ебанутой психики, Семеныч (который, оказывается, всего лишь отправился в полет на крыльях любви от Зининого шлепка) куда-то там у себя въебался и тихонько заныл, а Зина, не выключая улыбки, с неожиданной быстротой скользнула вслед за ним и захлопнула за собой дверь. Бедный Че от очередной встряски дома все-таки наебнулся на пол и окончательно там затих, боясь привлекать к себе лишнее внимание, а я так и остался стоять посреди коридора, с единственной мыслью в голове: всё-таки Зинина улыбка покруче Семенычевой. Потому что у неё зубов на полтора больше.
Где-то минут через двадцать мои ноги наконец прекратили забастовку, и я мелкими шажками по стеночке пробрался в свою комнату, где и затаился, безрезультатно пытаясь уснуть под скрипы кровати, басовитые вздохи Зины и писклявое поскуливание Семеныча. Ближе к полуночи, когда скрипы стали понемногу переходить в Зинины «Нутычобля», а давление в мочевом пузыре превысило норму раз в пятнадцать, я всё-таки решил предпринять вылазку в туалет. Потихоньку приоткрыв дверь и просунув в коридор голову, я уже собрался выходить, когда дверь в Семенычеву комнату вдруг распахнулась. Оттуда выскочил голый Семёныч и резво поскакал к спасительной двери в подъезд, но из комнаты вдогонку за ним внезапно метнулась Зинина лапища, в которой и скрылись Семенычевы ступни. Причём полностью. Низ Семеныча как-то резко затормозил, тогда как сам Семёныч всё ещё ломился к окну, из-за чего в соответствии со всеми законами физики ебло Семеныча описало нехуйовую такую дугу и с громким треском вонзилось зубами в паркет.
Зинина рука с зажатым в ней Семенычем начала медленно скрываться в комнате, а я вдруг вспомнил все ужастики, которые смотрел в жизни и понял, что снимали их реально ботаники, которые ничего страшного в жизни и не видели. За Семенычем на полу оставались сквозные борозды от ногтей с обломками паркетной плитки, но прервать неторопливое движение наверное не смогли бы и пара БТРов, тянущих Семеныча в другую сторону. Перед тем, как окончательно исчезнуть, Семёныч из последних сил зацепился зубами за порог, но после очередного рывка Зины скрылся внутри комнаты вместе с порогом и затих. И тут из комнаты вышла сама Зина. До этого я реально думал, что дальше охуеть уже не смогу, но как же жестоко я ошибался… Возьмите какую-нибудь бегемотиху, оденьте её в портупею с цепями, обколите виагрой и закройтесь с ней в одном помещении – и вы меня поймёте. Пендосский «Шок и Трепет» по сравнению с этим – обыкновенный «Треск и Шёпот» блять. «Треск и Шептунок» даже.
Это был пиздец, полный и безоговорочный. Даже окно казалось мне охуенным путем к спасению, не смотря ни на четвертый этаж, ни на сваленный внизу строительный мусор – вот только не было у меня времени решётки грызть… А Зина всё ближе… Вот она уже в комнате… Тянет свою лапу ко мне, забившемуся в угол кровати… Я зажмурился, а Зина вдруг сказала: «Бум-м-м бля!» и затихла. Открыв глаза, я почему-то вместо Зины обнаружил перед собой расцарапанного Семеныча, с чугунной сковородкой в руках. А потом и Зинину жопу, которая даже в лежачем положении возвышалась над кроватью чуть ли не на полметра. «Бе-бе-бежим б-б-бля…» - проблеял Семеныч и резво поковылял к выходу, как-то неестественно расставляя ноги. Ясен хуй, уговаривать меня не пришлось, и уже через пару минут я, подгоняемый ревом разъяренного Зверя, вовсю съёбывался в направлении ближайшей подруги – благо жила она напротив.
С утра, когда кошмары прошедшей ночи немного отступили, я всё же решился наведаться домой. Зины уже, слава богу, не было, а разъёбанную ей в хлам обстановку Семеныч потихоньку восстановил. Даже почти без пиздюлей. Точнее почти без переломов. Еще примерно с год я прятался под кровать при любом подозрительном шуме с лестничной площадки, но Зина в нашем доме так больше и не объявилась. Хуле, сковородка походу заговоренная попалась.
А Семеныч так до сих пор при слове «Зина» мертвым притворяется и вонять сцуко начинает… Бывало скажешь скажешь ему что-нибудь вроде: «Семеныч, я вот только что из магаЗИНА…» - и всё, пиздец: зима, не зима – а окна на ночь открывай…
Кагвсигдаваш БС aka Бушш Средний, октябрь 2007 года.
Комиссован
 Мама открыла холодильник. Сверкнула большая никелированная дверная ручка.
Мама открыла холодильник. Сверкнула большая никелированная дверная ручка.
- Володенька, обедать будешь? – спросила она, переставляя для чего-то внутри холодильника кастрюли и тарелки.
- Не знаю, мам, - Алексашин застыл в дверях кухни, не решаясь пройти дальше в грязных сапогах, - а что там есть?
- Да вот, сам посмотри, - ответила мать и сама же принялась перечислять содержимое – студень есть, вчерашний правда, картошка есть, котлеты, огурцов малосольных на рынке купила.
Алексашину все это показалось очень аппетитно, но больше хотелось хлеба с маслом.
- Мам, а хлеба нет с маслом?
- Есть конечно. Хлеб в хлебнице, масло вот: - она достала увесистую масленку из толстого запотевшего стекла, внутри которой желтел брусок масла покрытый бусинками воды.
Алексашин повернулся к навесному шкафчику. На полке в плетеной хлебнице чинно лежала большая, обжаренная с боков до румяной корочки, а сверху густо обсыпанная белоснежной мукой паляница. Алексашин сглотнул слюну, так ему захотелось схватить эту паляницу, отломить от нее кусок побольше и жирно, в два пальца, намазав его маслом, тут же съесть, а потом снова отломить и опять намазать, так же – в два пальца. И съесть, но уже медленно, смакуя каждый кусочек.
Но только он протянул к руку, чтобы взять паляницу, как неожиданно мать не своим голосом оглушительно прокричала ему в ухо:
- Рота, пад-ъем!
И все, что казалось таким реальным и осязаемым, рассыпалась в один миг на мелкие осколки, и отраженные в них полсотни желтых круглых плафонов казарменных ламп ослепили глаза, заслонив своим блеском и мать, и холодильник, и такую вкусную, такую желанную паляницу, оставив взамен лишь режущий свет, грохот кирзовых сапог и окрики сержантов.
Тощие бойцы пугаными воробьями высыпали из кроватей и бросились одеваться, спешно натягивая на себя пэша, обертывая вокруг ног портянки, ныряя в сапоги, и уже на ходу застегивая ремни, выбегали строиться на взлетку, разрезающую казарму на две равных части.
Алексашин неловко стащил с себя одеяло, вскочил с кровати и, продолжая еще путать сон с явью, стал торопливо одеваться. Чтобы не быть опять последним, он не стал наворачивать портянки, а просто накинул их на горловины голенищ и протолкнул ступнями внутрь сапог. И все равно опоздал. Взвод уже вытянулся в струнку, когда он суетливо протиснулся в строй на свое третье с начала место.
- Алексашин, ты заканчивай дрочить по утрам, - сделал ему замечание Святошев, впрочем, сказал он это не злобно, скорее по инерции. Утром и сержанты еще не проснулись, хотя и застегнуты на все пуговицы, а зевают - челюсти щелкают. Сонным им придираться лень, даже Святошеву.
После переклички рота, минуя туалет вышла на плац. По утрам туалет солдату не положен: командование, а скорее сами сержанты решили, что оправиться и на улице можно: так быстрее выходит, а что мороз – так на то и армия, чтобы лишения всякие терпеть.
Шел седьмой час утра, но ощущалось это только по кипению жизни внутри казармы, снаружи по-прежнему стояла глубокая, морозная ночь. Рассветает в этих местах не раньше девяти, а потеплеет хорошо, если к апрелю. Темно, однако, не было: вся территория части от КПП до свинарника была равномерно залита желтым светом от фонарей и исполосована лучами нескольких прожекторов, стоявших на крышах казармы, административного корпуса и примыкавшей к нему столовой. Из-за этого освещения и без того унылый вид учебки - высокие редуты снега вдоль прямо расчерченных дорожек, серо-зеленые стены строений, черный квадрат плаца окруженный выцветшими стендами, да обнимающий всю часть высокий забор с колючей проволокой, – окрашивался в тускло-желтый цвет, нагоняя на Алексашина невыносимую, безысходную тоску.
Немного потоптались на плацу, для чего делалось это каждодневное топтание, Алексашин никак не мог взять в толк, да и не хотел. Однако, каждый раз с замиранием ждал, что вот сейчас роту вернут обратно в казарму. Но не было еще такого, чтобы вернули. Наконец, бойцы двинулись к воротам части, переходя на легкий бег и постепенно ускоряя темп так, что к забору зоны достигали уже той скорости, когда для спортивных результатов еще слишком медленно, а для обычной зарядки уже слишком быстро.
Бежали в колонне по трое. Алексашин бежал посреди тройки, слева от него сосредоточенно пыхтел Зданович, отмахиваясь огромными ручищами и при выдохе смешно складывая губы трубочкой. Справа бежал татарин Юмаев, его сосед по кровати, и деливший с ним прикроватную тумбочку.
Алексашин, никогда не любивший никаких физических нагрузок, а бег особенно, уже давно сбил дыхание и начинал потихоньку сдавать, сбавляя ритм. Юмаев заметил это и злобно прошипел на выдохе:
- Алексашин бежи, сука!
- Дыхалки не хватает! – жалобно ответил он.
- Бежи я сказал, а то опять утками посадят. У КПП передышка будет.
Алексашин выровнял темп, стараясь дышать размеренно, с интервалами. Через триста метров рота выбежала к воротам тюремного КПП. Юмаев оказался прав: сержанты перевели колонну сперва на шаг, а затем остановили. Поступила команда оправиться. Тяжело дыша, бойцы облепили сугробы.
После этой небольшой передышки, бег продолжился. Бежали, как и всегда, сперва до шоссе, потом сворачивали на дорогу ведущей к расконвойке, и пробегая ее, снова выходили на периметр зоны, оставляя его по левую руку. Всего получалось пробежать километров пять. Вроде и не так много, даже для Алексашина, но к концу кросса, метров за триста, а если случался залет, то и за полкилометра до ворот части, роту часто сажали на корточки и заставляли двигать дальше «по-утиному», сцепив руки за шеей. И вот этого испытания Алексашину никогда не удавалось пройти до конца: преодолев метров тридцать, он не выдерживал и заваливался на бок, выпадая из строя. И тогда сержанты поворачивали роту обратно и заставляли идти в полном приседе заново. Святошев лично пинками, порой очень болезненными, подгонял Алексашина, который снова, но уже через десять метров падал. В третий раз еще ни разу не поворачивали, но Святошев все время грозился, что как-нибудь заставит их взвод скакать целый день, пока Алексашин «Не соблаговолит пройти как все нормальные воины». После такой зарядки Алексашину, у которого перед глазами плавали круги, а ноги становились ватными, хотелось лечь в кровать и лежать целые сутки, ничего не делая, никуда не вставая, отвлекаясь только на еду. Алексашин эту зарядку про себя называл разрядкой.
Сегодня сажать не стали – уж больно холодно было, да и вроде как не за что. Никто не опоздал. Собственно, опаздывали и смешивали строй, - чуть не самое тягчайшее преступление на марше, как уяснил для себя Алексашин, - всегда только он и еще два бойца из второго взвода. И сегодня никто из них не умудрился ввалиться в заднюю тройку, может оттого что бежали не так быстро, а может, еще почему. Свезло, наконец. Обычно, кто-нибудь из них, нет-нет, да и завалится. И тогда роту, как правило, сажали, пускай и мороз.
После пробежки, уже на территории части их отвели на стадион и заставили несколько минут крутить руками и прыгать на месте, – чтобы дежурный офицер, делающий в это время обход, увидел, что их 4-я рота исправно делает утреннюю гимнастику. Как только дежурный завернул за административный корпус, помощник 1-го взвода Михеев повел роту в казарму.
Начиналась ежедневная утренняя экзекуция - утренняя уборка казармы и заправка кроватей. Кровать полагалось заправлять строго по установленным правилам, одеяло постелить полосами к ногам, завернуть под матрас по третьей полосе и обязательно набить кантик, чтобы кровать выглядела как ровно спиленная доска. Этого Алексашину, как и много другого здесь в армии, добиться никак не удавалось. Каждый день он заправлял свою кровать, тщательно, миллиметр за миллиметром вытягивал одеяло, расправлял на нем каждую складку, затем также тщательно набивал подошвой тапка кантик, придавая ему четкую прямоугольную форму. А все равно доски не выходило – или бугорок посреди одеяла оставался, или полоска шла неровно, или кант по длине сбивался и круглился на краях. Обходя каждую кровать, Святошев останавливался возле алексашинской, делал на лице страдальческую гримасу, как при зубной боли, затем, пристально, немигающим взглядом глядел на Алексашина и одним движением руки переворачивал кровать вверх тормашками.
- Алексашин, минуту тебе перестелить, и чтобы как струнка кровать стала. Вопросы есть?
- Никак нет, тащсан! – обреченно отвечал Алексашин и тоскливо оглянувшись на свой взвод, как бы ища в них поддержку, но не находя ее (давно уже не находя), он начинал стелить кровать заново. И снова Святошев ее переворачивал, и снова Алексашин ее застилал, на этот раз, по приказанию Святошева, вместе с Юмаевым, который быстро научился этому недоступному для Алексашина искусству и заправлял свою кровать всегда с легкостью и даже с некоторым изяществом. Юмаев, обычно, отодвигал Алексашина в сторону и делал все сам: так выходило быстрее. Поначалу Святошев после такой помощи снова переворачивал кровать, требуя, чтобы Алексашин заправлял ее сам, но постепенно ему это наскучило, и он ограничивался одним переворачиванием, разрешая дальше застилать Юмаеву. Тот хотя и злился на Алексашина за эту дополнительную нагрузку, шипел на него, пару раз даже болезненно бил его сапогом в голень, но в целом, терпел, понимая, что пока все кровати не будут заправлены, взвод, а значит и вся рота, не сможет пойти на завтрак. И в этот день, после дух неудачных попыток Алексашина, Юмаев сам, не дожидаясь начальства, быстро застелил Алексашину кровать, шепнув ему злобно, что это в последний раз. Алексашин согласно закивал головой. Он не думал, что будет завтра, сегодня одной проблемой стало меньше. Скоро раздалась команда строиться на завтрак.
Рота медленно втянулась в здание столовой, выпуская на морозный воздух клубы густого пара. Первый взвод и сержанты направились прямиком к раздаточной. Оставшиеся дожидались своей очереди в просторной, в четыре окна пристройке, соединявшей проходную с обеденным залом.
Предоставленные самим себе бойцы, рассыпались по холодному помещению. Будто скрепки к магниту, прижались они к едва теплым рыжим батареям, толстыми гусеницами скользившими вдоль стен, выкрашенных на две трети от пола зеленой краской, а выше к потолку просто оштукатуренные.
Курящие задымили заныченными бычками, вставляя их в корпусы авторучек или просто насаживая на иголки, чтобы не обжечь пальцы. Находились и такие, кто немного стесняясь своей роскоши, осторожно, стараясь не проронить ни крошки драгоценного табака, продувал целую гильзу кировского «Беломора», купленного в армейской лавке у КПП. К таким тут же неслось с разных сторон робко-вопросительное: «покурим?».
- Уже курим, - отвечал курильщик, оставляя чинарик, своему корешу или если такого, вдруг не было, первому просильщику, у которого тоже испрашивали разок дернуть.
Алексашину удалось укрепить свой тощий зад на куске теплого чугуна, и сейчас он полусидел, оцепенев в сладкой дреме, смежив веки и втянув шею в воротник шинели.
Курить он толком не начинал и потому просто наслаждался неожиданным отдыхом, стараясь отогнать от себя тоскливые мысли о доме и о еде, а старался думать о чем-нибудь приятном, например, о маме, которую здесь в армии он так неожиданно для самого себя и так сильно полюбил. Полюбил так, как любят дети, обожествляя ее образ, как обожествляют его малыши, не представляющие себе существа важнее и любимее матери. Алексашин, с одной стороны, стеснялся этого своего нового, неожиданно сильного чувства, даже пытался его выжить из себя, доказывая себе, что глупо и некрасиво ему уподобляться маленькому ребенку, так сильно привязываясь к матери, тем более что в гражданской жизни он ее, особенно последние подростковые годы, никак не баловал своей любовью. Но с другой стороны, именно это чувство, эту любовь он берег в себе больше других, именно к нему он обращался в тяжелые моменты своей теперешней военной жизни, черпая из него духовные силы для противостояния враждебного окружения. В том, что окружение, в какое он теперь попал было враждебное, он нисколько не сомневался. Если еще в первые дни службы, он, как теленок на корову, доверчиво и с надеждой смотрел на офицеров, то сейчас, после трех месяцев службы, понял, что никакому офицеру он со своими переживаниями и страхами не интересен, что помощи ждать здесь не от кого и надеяться он мог, только на самого себя. Была еще, конечно товарищеская поддержка среди солдат одного призыва или с одной области – землячество – но от Алексашина постепенно все отвернулись, и, в конце концов, осталось два-три товарища, с которыми он мог поговорить, что называлось по душам.
Служба, нелегкая с первого дня, все сильнее угнетала его невыносимой тяжестью, своей беспощадной однообразностью, холодом вятской зимы, но, прежде всего, голодом.
Из-за него Алексашин все больше скатывался к тем, кого здесь называют чушками или помойщиками. Недотянув ростом всего сантиметра до двойной порции, вечно голодный, в поисках еды нередко попадался он у окна с грязной посудой за прочесыванием тарелок и подносов, высматривая не съеденную корку хлеба. Дважды его уже ставили перед строем, заставляя поедать целый батон, пока рота с грохотом падала на пол казармы, по команде «вспышка справа!». Вечером, после отбоя, били свои же, скрученными полотенцами, чтобы не оставлять следов.
Уже потом, глухой ночью, Алексашин глухо рыдал, накрывшись подушкой и закусив край простыни, чтобы никто не услышал. Клялся себе сквозь слезы, что в последний раз, что лучше умереть, чем терпеть все это, а на следующее утро, снова рыскал голодным взглядом по чужим тарелкам, по грязной посуде и поварам.
- Браток, плесни чутка больше, - тихим голосом, унизительно улыбаясь, упрашивал он здоровенного мордатого повара в большом грязно белом и таком нелепом на фоне армейского пэша, колпаке.
- Съебался, Алексашин! – повар не глядя швырял на железное полотно раздаточной тарелку каши и зачерпывал следующую.
- Алексашин, сука блять, ты че опять палишься?! – шипели сзади и пинали его курсанты выталкивая из прохода.
Он брел дальше, высоко подняв большую, шишковатую голову на тонкой шее, нелепо озираясь и оглядываясь назад в тщетной надежде, что там передумают, позовут и дольют ему полчерпака каши.
Затем, все повторялось у хлеборезки. Склонившись в половину, влезал головой в окно и бубнил, просительно-унижающе:
- Рустэм, отрежь горбуху, я тебе папирос найду.
- Иди в хуй, сука! Я не курю, - зло огрызался дагестанец Рустэм и выталкивал его из хлеборезки.
Оставшиеся у Алексашина товарищи, точнее те, кто не до конца отвернулся от него, иногда подбадривали его.
- Будет у нас Володька весна. Отожремся тогда, - говорил ему краснодарец Мордашев.
- Будет Леха,- уныло соглашался Алексашин. Сам он в душе давно перестал верить в весну.
- Ты главное, по помойкам не шныряй и не крысятничай.
- Я не крысятничаю.
- Но ведь шныряешь?
- Это да. Леха, я хавать все время хочу. И домой тянет.
- Все хавать хотят, и домой всех тянет.
- Откосить бы, - мечтательно тянул Алексашин и уходил в себя.
Он, с тех пор как двое солдат из пятой роты вскрыли себе вены на руках через ночь после прибытия, не переставая думал об этом. Резать вены ему не хотелось. Страшно было: вдруг не спасут? Те двое полночи пролежали, пока их дневальный не заметил. Нет, с болью, с увечьями ему не хотелось, а вот чтобы так, по болезни, без боли. Так ведь не брали его болезни.
В декабре еще, через две недели как приехал он из Калуги в Кирово-Чепецк, и как завладела им тоска от здешних мест, решил Алексашин заболеть во что бы то ни стало.
Дождавшись, когда их взвод заступил в наряд, он напросился караульным на склады и на пару с Терехиным, ночью разделся до пояса, и извалялся в снегу на сорокаградусном морозе.
На следующий день оба заболели. Но так, вяло как-то: температура едва дотягивалась до 37-ми, тогда как в армии высокой она считалась с 37.6. Им даже постельный режим не выписали. Так и кашляли в строю.
Через три дня, у Алексашина все прошло, а Терехину в одну ночь поплошело, приполз он к дежурному, начал на боли жаловаться. Увезли в больничку, оказалось: пневмония. Месяцем позже он вернулся на автобусе, комиссоваться. Довольный, отожратый на больничном пайке. Алексашин как раз стоял дневальным на тумбочке и смотрел, как Терехин с мамой неспешно собирает свои вещи, гладит парадку, о чем-то почти вальяжно говорит с командиром роты Гомозовым, которого в роте все, конечно, звали Тормозовым.
- Эй, Терехин, - улучив момент, позвал его Алексашин, - ты скажи, как это у тебя так случилось?
- Не знаю, браток. Вот так. Повезло короче.
- А почему комиссовали?
- А у меня одно легкое не дышит, кажется так. Инвалидность будут оформлять!
- Так ты что же, на одном теперь будешь?
- Ну и хуле? Мне в противогазе вокруг зоны больше не бегать.
- Это верно, - Алексашину нестерпимо стало жаль себя, у которого оба легких дышали и потому он должен был стоять на нелепом постаменте и как попка дурак орать на всю казарму: «дежурный по роте на выход!» – только лишь появится в дверях кто-нибудь из офицеров или: «рота, смирно!» – если заглянет вдруг комбат или еще кто чином повыше.
Убаюканный теплом от трубы, Алексашин почти спал, когда в дверях повисла белобрысая голова младшего сержанта Святошева, крикнувшего сонным бойцам:
- Третий взвод строиться!
Гремя сапогами по мерзлой плитке, курсанты построились в две шеренги. Святошев, по своему обыкновению, принялся шутить. Шутил он своеобразно и в первую очередь над Алексашиным и Климовым, щуплым парнишкой из Сыктывкара.
- Климов, покажи ящерицу, - скомандовал Святошев.
- Товарищ младший сержант… - начал было Климов, но Святошев перебил его:
- Климов, два шага из строя!
Солдат шагнул вперед. Святошев подошел ближе, ростом он чуть не вдвое был выше Климова.
- Ящерицу пока-зать!
Климов открыл рот, показал язык и стал им водить из стороны в сторону. Святошев, откинув голову назад, громко, заразительно засмеялся. По шеренгам тоже пролетели улыбки, хотя ничего смешного Климов не делал, но здесь все было не так, как на гражданке: еда не такая, смех не над тем.
- Ящерица, нале – во!
Климов, не переставая шевелить языком, повернулся налево. Затем, следуя приказанием сержанта, сделал поворот кругом, прошелся взад-вперед вдоль строя бойцов.
- Молодец, упал в строй – Святошев теперь посмотрел на Алексашина, будто вспоминая что-то.
- Тащ сан, - не выдержал, первым заговорил Алексашин, панически боявшийся Святошева, как, впрочем, и всякого старшего по званию.
- Что тащсан, - Святошев шагнул к курсанту, - ты меня звал, Алексашин?
- Никак нет, тащ сан.
- Кудряшов!
- Я!
- Алексашин звал меня?
- Так точно товарищ младший сержант!
- Боронин! – продолжал Святошев.
- Я!
- Курсант Алексашин звал меня?
- Так точно товарищ младший сержант!
- Вот, - довольный Святошев повернулся к бледному Алексашину, - ты меня за нос водишь, получается?
- Никак нет тащ сан.
- Не слышу.
- Никак нет та-рищ сан!
- После завтрака принесешь мне три папиросы. Вопросы есть?
- Никак нет, тащ сан!
Святошев заложил руки за спину, картинно расставил ноги и скомандовал:
- Взвод, нале-во! В столовую, в колонну по одному, шагом марш!
После завтрака роту погнали на плац – развод на занятия. Сегодня они должны были метать боевые гранаты, а перед тем, учить азбуку Морзе и чистить ни разу еще не стрелявшее оружие. Чистить его полагалось через день, и непонятно было для чего, если они из него ни разу не палили, и неизвестно когда будут и будут ли?
Уже три почти месяца здесь, а пока только и делали из военных дел, что разбирали-собирали автоматы, бегали в касках, да учили морзянку. Тоже, тот еще труд. Казалось бы - сидишь в теплом классе, да поешь, хором растягивая или наоборот, обрубая слога: « И тооль-коо оод-наа! Две не-хоо-роо-шоо! Три те-бе маа-лоо!».
Да вот так попоешь с полчасика, и такая дрема набрасывается, что хоть кусай себя за локоть, а все равно, нет-нет, да и клюнешь носом, и тут же Святошев тебя длиннющей антенной по плечу перетянет. А то и «проверку связи» устроит. Это такая игра. Говорит, сам ее изобрел, может и не врет, с него станется.
Весь взвод за руки сцепляется друг с другом. Крайние бойцы за оголенные провода берутся, подсоединенные к двум телефонам ТА-57. Один крутит ручку у динамо машины первого телефона, ток через весь взвод летит на тот конец. И крайний курсант должен поднять трубку на том аппарате и сказать:
- Дежурный радист слушает!
- Проверка связи! – отвечает тот, и еще раз крутит ручку и опять ток летит по курсантам. Кто поздоровей или к боли нечувствительный, как Зданович – мордоворот из Кемерово, - тому только ладошки пощиплет. А Алексашин всегда подпрыгивал, дергался как марионетка. И не от боли сколько, а больше от неожиданности и от страха – с детства боялся он электричества.
После уроков по спецподготовке – так назывались их «пения» и перед чисткой оружия Алексашин тщетно пытался найти папиросы, но никто не давал.
- Братцы, он же меня побьет! – умолял Алексашин, давя на жалость.
- А так нас побьет, - отвечали ему.
Святошев скоро поинтересовался, где папиросы.
- Нету ни у кого, тащ сан! – развел руками Алексашин и повесил голову.
- Нету? – недоверчиво переспросил Святошев и позвал Гаврикова, шустрого паренька из их взвода: - папиросу мне добудь, даю тебе три минуты!
- Есть! – рявкнул Гавриков и бросился на поиски.
Через минуту он вернулся сжимая в варежке три беломорины. Святошев взял папиросы, одну закурил, две других положил в портсигар. Выкурив половину, он протянул бычок Гаврикову.
- Курсант Гавриков, объявляю Вам личную благодарность и разрешаю ни хуя не делать до обеда.
- Рад стараться товарищ младший сержант! Разрешите идти?
- Иди.
Гавриков убежал в казарму, Святошев подошел к Алексашину и взяв его за ремень тихо сказал:
- Алексашин, почему ты меня все время дрочишь?
- Я не…
- Молчать сука! Я тебя спрашиваю, почему ты, душара, все время херишь мои приказы? Ты решил, что меня можно бросать через хуй? На дурочку все свести?!
- Никак нет таз сан, я не…
- Вечером после отбоя подойдешь ко мне. А сейчас съебался чистить снег.
Алексашин поплелся за лопатой, тоскливо думая о своем скором будущем. Этот Святошев не возлюбил его сразу. Когда Алексашин только из грузовика вылезал, тот, подошел к нему и спросил, из какой части он прибыл. Алексашин как назло забыл номер, запутался, начал что-то мямлить.
- Ты что боец, не знаешь, откуда ты прибыл? – спросил удивленно Святошев. И в ту же ночь заставил Алексашина тысячу раз написать в тетради номер своей части.
С тех пор он постоянно к нему придирался, иногда по мелочам, иногда, даже как бы по-дружески, но после помоечных залетов Алексашина, Святошев просто озверел, не проходило и дня, чтобы он не придумал ему новую пытку. И вот очередной залет, и снова будут бить, или в «отпуск» отправит или еще «очко» драить до полуночи.
После обеда, когда Алексашин предавался своим грустным мыслям о предстоящем вечере и неловко счищал снег с огромного плаца, прозвучала команда строиться.
На середину плаца вышел комроты майор Гомозов и объявил о сегодняшнем метании боевых гранат.
В роте прошло заметное оживление: изнывающая однообразность строевой подготовки и ежедневная уборка территории всем настолько набило оскомину, что малейшее отклонение от установившегося распорядка, походило чуть не на приключение.
В сопровождении лейтенанта Якушева четыре бойца ушли получать ящики с гранатами, а остальные двинулись к огневому рубежу, оборудованному сразу за складами.
Гомозов, как и прошлый раз, когда рота метала учебные гранаты, принялся объяснять, по своему обыкновению бубня в нос что-то заумное, никакого отношения к броску Ф-1 не имеющее. Бойцы, незаметно переминаясь с ноги на ногу, слушали. Наконец, Гомозов устал, и вконец запутавшись в собственных выкладках, беспомощно взглянул на командира первого взвода капитана Дерягина и замолчал. Дерягин поправил портупею коротко напомнил воякам для чего нужна граната оборонительного действия Ф-1, из чего она состоит и как ее следует метать. Потом объявил порядок метания. Как всегда, первым бросал первый взвод, затем второй, последним третий. В ожидании гранат, бойцы отрабатывали движения по траншеям. То есть бегали по узким проходам, в изобилии отрытыми здесь прошлыми призывами.
Принесли ящики с гранатами. Откидались первый и второй взвода. Их третий все это время, как белки в колесе, бегал по глубоким окопам. Наконец, подошла их очередь и курсанты, вытянувшись в окопе, один за другим побежал к огневому рубежу.
Алексашин, который в школе уроки НВП прогуливал, здесь тоже не прислушивался к объяснению офицеров, поглощенный своими тревогами и общей отупляющей усталостью. Как-нибудь он ее кинет. Учебную же кинул, кинет и эту. Какая-то тревожная мысль вертелась в его голове, но что именно это была за мысль он понять не мог, а доискиваться до нее, сосредотачиваться, Алексашин уже не мог, до того он уже устал к середине этого дня, причем не несколько физически, сколько морально. Особенно же его тяготил предстоящий вечер с непременными побоями.
- Алексашин! – скомандовал Святошев и пинком подтолкнул его вперед. Алексашин пробежал два поворота и вылез, цепляясь за бруствер на позицию. За высоким, обитым железом щитом сидел майор Гомозов перед ящиком гранат. Рядом стоял командир взвода лейтенант Якушев. Он вложил Алексашину в правую руку круглую увесистую бочку Ф-1.
Алексашин, зачем-то покрутил ее в руке, недоуменно соображая.
- Что Вы делаете, воин? – сморщился Гомозов и велел бежать на рубеж.
Алексашин, в сопровождении Якушева побежал к следующему щиту.
- Значит так, Алексашин, в правой руке лимонка, левой дергаешь чеку, бросаешь что есть силы вперед и прячешься вот за этот щит, ясно?
- Ясно тащ летенант,- неуверенно ответил он, и хотел сказать вслед что-то важное, что вертелось у него в голове, и никак не хотелось собираться в ясную мысль, но растерялся, ибо так и не знал, что именно он хотел сказать. Якушев отошел уже за щит и шипел оттуда:
- Алексашин, черт такой, дергай чеку и бросай!
Алексашин послушно выдернул кольцо и замер с отведенной рукой. Только теперь до него дошло, что именно вертелось у него в голове, что он хотел сказать: он не сможет швырнуть лимонку на безопасное расстояние правой рукой. Он был левшой, и именно это он и хотел сказать Якушеву, да не сказал. И теперь он стоял, боясь швырнуть лимонку слишком близко, и медлил чего-то ожидая.
- Алексашин! Что ты творишь Алексашин? - повторял бледный Якушев, - бросай ее на хер скорее.
- Я не могу правой, тащ летенант, - Алексашин разжал ладонь и начал перекладывать лимонку в левую руку, тут Якушев, совсем теряя самообладание закричал в голос:
- Бросай ее на хуй, мудак!
Алексашин вздрогнул, лимонка выпала на снег, он наклонился, чтобы ее подобрать, в этот момент Якушев прыгнул в его сторону и, сбивая его с ног, повалил за спасительный щит.
Раздался взрыв. В ногах у Алексашина полыхнуло резкой болью, как будто от сильного электрического разряда. В глазах все поплыло. Он с трудом смог различать, что происходило вокруг. Ближе всего к нему было какое-то неестественное, будто из воска вылепленное лицо Якушева, в ушах гудело, как во встревоженном улье. Краем зрения он видел, как из окопа бежали солдаты, впереди них, неряшливо, по-бабьи вихляя тазом, семенил Гомозов.
Алексашину становилось все труднее фокусировать взгляд, он медленно проваливался в черную зияющую пустоту, сдавленный сверху ставшим в раз неподъемно тяжелым телом лейтенанта. В голове загнанным зверем металась пульсирующая боль, но сквозь нее, сквозь страх, сквозь приливающий жар, шедший обжигающей волной от ног по всему телу, он успел ухватить тонкой ниткою спасительную мысль: комиссован! Теперь он непременно будет комиссован и никакой Святошев не отправит его за папиросами. От этой мысли ему было не так больно, и на бледном лице вдруг выступила счастливая улыбка.
Курсант Алексашин после трех месяцев проведенных в военном госпитале был комиссован. Майор Гомозов, учитывая безупречный послужной список и тяжелые семейные обстоятельства был приговорен военным трибуналом к трем годам лишения свободы. Лейтенант Якушев погиб.
Автор: Khristoff
 На зятя своего, Борю, Серафима Павловна пожаловаться не могла. Зять был непьющий, добрый, даже пенсию тещину в семейный бюджет не включал. «Вы эти деньги себе на черный день собирайте, мама», – ласково говорил он. И Серафима с грустью думала, что она, когда этот день, не дай Б-г, настанет, благодаря Бориным заботам будет богата, как никогда в жизни.
На зятя своего, Борю, Серафима Павловна пожаловаться не могла. Зять был непьющий, добрый, даже пенсию тещину в семейный бюджет не включал. «Вы эти деньги себе на черный день собирайте, мама», – ласково говорил он. И Серафима с грустью думала, что она, когда этот день, не дай Б-г, настанет, благодаря Бориным заботам будет богата, как никогда в жизни.Сам же Борис зарабатывал много, хотя еще при знакомстве Серафима никак не могла понять, что это за профессия такая – нападающий, и Аллочке пришлось объяснять ей, что по профессии Боря – инженер, но работать он начнет позже, когда кончит играть. А до того времени, объяснял Боря, нужно успеть и одеться как следует, и мир посмотреть, и квартиру обставить мебелью...
– Так ведь она у нас и так обставлена, – искренне удивлялась Серафима. – Вот шкаф стоит, кровать, пианино, этажерка, и еще есть три стула, просто их сейчас не видно, потому что мы на них сидим!..
– Ах, мама, – задушевно отвечал Боря, – может быть, это и кровать или, как вы говорите, этажерка, но только все это не мебель. Мебель – это совсем другое! Ну ничего, положитесь на меня, и через пару лет вы свою собственную квартиру уже не узнаете...
За каждый забитый гол зятю платили премию, и играл он, пока собирали на мебель, очень результативно. Первой из квартиры исчезла кровать, которую Серафима подарила Аллочке в качестве приданого, – и в тот же день Боря привез из магазина ящик, в котором оказалась дюжина полированных досок, огромная плюшевая подушка и примерно полведра шурупов устрашающего размера, вымазанных машинным маслом.
Появление этого добра Серафима встретила спокойно – в конце концов, спать на этих шурупах предстояло не ей. Значительно тяжелее было расставаться со старым трехстворчатым шкафом. Он напоминал молодость и уютные вечеринки с чаем, семечковой халвой и соседями. На этих вечеринках у каждого был свой «номер», в том числе и у шкафа: в самый разгар веселья, когда сосед Эдуард Евтихиевич начинал рассказывать леденящие душу истории про покойников (он был сторожем на кладбище и часто сталкивался с ними по работе), дверь шкафа безо всякой видимой причины с таинственным скрипом открывалась. Все замирали на своих местах, с ужасом ожидая, что же будет дальше. Но дальше не происходило ничего, и старый шкаф в такие минуты становился похожим на слегка выжившего из ума дедушку, который хотел развлечь гостей веселым фокусом, но помнил его только до половины...
Теперь «дедушку» решили поменять на «Хельгу». Копили на нее довольно долго, и когда до нужной суммы оставалось забить всего один гол, Боря пригласил на матч всю семью. И Серафима видела, как он забил его, и вся команда обнимала зятя, и тысячи совершенно незнакомых людей на трибунах целовали друг друга, будто радовались, что теперь наконец у Бори будет полный гарнитур.
Утром следующего дня состоялся разговор, которого Серафима давно ждала и боялась.
– Ну вот, – сказал Боря, удовлетворенно оглядев комнату, – а туда мы поставим торшер-бар, – и он указал на угол, где стояло пианино.
– Какой такой «торшер-бар»? – испуганно спросила Серафима, неуверенно выговорив незнакомое слово. – А инструмент куда?! Инструмент куда денем, Боренька?!
– Да поймите, мама, – уговаривал зять, – у нас тахта новая, «Хельга», к нам интеллигентные люди в гости ходят, а тут этот гроб с музыкой! Просто смешно, честное слово... Ну зачем вам эта рухлядь?!
– А этот... торшер-бар нам зачем? – упорствовала Серафима.
– Чтобы вино ставить, – объяснял Боря.
– Так ведь у нас никто не пьет...
– А торшер – чтобы книжки читать, – объясняла Аллочка.
– Так ведь у нас никто не читает...
– Ну, знаете!.. – отрезал зять. – На пианино у нас, слава Б-гу, тоже никто не играет! И вообще, я уже объявления повесил, сегодня покупатели придут.
И он ушел на тренировку.
– Не расстраивайся, мамуля, – сказала Аллочка и, подхватив на руки двухлетнего Сержика, понесла его на английский. А Серафима, оставшись одна, начала вспоминать всякое и расстраиваться.
Это было очень давно, как будто в другой Серафиминой жизни. В той жизни была она маленькой девочкой, и был у нее папа, путевой обходчик, человек добрый, но глубоко пьющий. И еще был старый, поросший бурьяном сад, откуда летними вечерами доносилась волшебная музыка. Серафима знала, что если в такой вечер пробраться в конец сада, то сквозь щель в заборе можно увидеть, как на веранде соседской дачи играет на пианино молодая женщина.
Серафима слушала, затаив дыхание. Отец однажды, увидев ее в такую минуту, поклялся бросить пить и на вырученные деньги приобрести инструмент, чтобы она училась. Но в тот же день от радости, что принял столь благородное решение, так напился, что чуть не пустил под откос товарный поезд.
Так что пианино было куплено уже гораздо позже, когда Серафиминой Аллочке исполнилось семь лет, и алиментов, которые накопились за это время, как раз хватило на покупку инструмента.
– Видите ли, – объяснял ей в конце первого учебного года Аллочкин учитель, высокий мужчина с тонкими, нервными пальцами виртуоза-неудачника, – теоретически игре на фортепиано можно обучить каждого. Но примерно один раз в сто лет рождается человек, которого учить не нужно. Он и сам все умеет. Например, Ференц Лист. И так же редко рождаются люди, которых тоже учить не нужно, потому что научить их просто невозможно. Например, Аллочка...
Только через много лет опять возникла надежда. Сержик был мальчиком способным. Это стало ясно с первых месяцев. Но зять сразу положил конец всем тещиным планам.
– Значит, так, – определил он, – английский, французский, фигурное катание, бокс – и все! Хватит. Нечего портить мальчику детство...
В общем, как ни крути, выходило, что пианино в доме уже ни к чему. Но согласиться с тем, что его нужно продать, Серафима Павловна никак не могла. Ну, не могла – и все... «Если кто придет, скажу – продали», – решила она.
И тут ее размышления прервал звонок. За дверью стояла Леська – восьмилетний плод греховной любви черноволосой, похожей на молодую ведьму красавицы-дворничихи из их дома. Ведьма с дочкой вдвоем приехали из села всего год назад, но сейчас в дворницкой в ожидании городских квартир уже теснилась вся их многочисленная родня.
– Здрасьте, – сказала Леська. – Я по объявлению. Это вы продаете пианино в хорошем состоянии?
–А ты что же – купить хочешь? – спросила Серафима.
– Та откуда ж у нас гроши? – хитро прищурилась Леська. – Я поиграть хотела, пока вы его не продали...
– А ты умеешь?
– Угу... – серьезно сказала Леська – и стала играть. И Серафима с первых же звуков почувствовала, что сейчас ей предстоит испытать то же самое, что и тогда, давным-давно, в заброшенном саду, оставшемся где-то в ее другой жизни.
– Где ж ты так научилась, Г-споди? – спросила она, когда все кончилось. – У вас же и инструмента-то нету?..
– Подумаешь! – махнула рукой Леська. – А я стол расчертила. Получилось как клавиши, очень удобно... А потом еще в музыкалке по вечерам...
И она опять начала играть, а Серафима – слушать.
Незаметно подкрался вечер, и, когда Леська собралась уходить, Серафима, совершенно неожиданно для себя, вдруг предложила:
– А хочешь, я тебе это пианино подарю?..
– Хочу... – очень тихо сказала Леська.
– Так считай, что оно твое...
– Ой, спасибо! – засуетилась Леська. – Так я сейчас сбегаю дядьев позову, чтобы снесли...
– Подожди, – робко попросила Серафима, – ты меня, это... научи играть что-нибудь простенькое, если можно...
– Конечно, можно, тетечка, вот хотя бы «Чижик-пыжик». Это совсем просто... Вот, смотрите: прямо над замочком две клавиши через одну: чи-жик, пы-жик – запомнили? А теперь первая справа от замочка и вниз: где-ты-был?.. А дальше...
– Хватит! – взмолилась Серафима. – Дай Б-г хоть это выучить...
И Леська убежала. А Серафима начала играть «Чижика», и играла его очень долго, бессчетное количество раз, и, может, оттого ей вдруг показалось, что уже не она играет, а сам этот таинственный ящик задает ей простой и глупый вопрос: «Где ты был?.. Где ты был?.. Где же ты был, чижик?..»
Потом пришли Аллочка с Сержиком.
– Продала?! – радостно спросила дочка, еще с порога заметив, что пианино нет. – Вот умница! Представляешь, а мы как раз торшер-бар достали! Боря его в магазине караулит, а я хотела в сберкассу за деньгами... Но теперь уже не надо, раз пианино продано... Давай скорее, мамочка!
И Серафима Павловна, не говоря ни слова, пошла в соседнюю комнату и вынесла оттуда деньги, приготовленные на черный день.
(с) Георгий Голубенко
Попадос Семеныча
 В тот день Семеныч неожиданно вернулся с улицы неотпижженым. Это само по себе нехуйово настораживало, а когда он зашёл на кухню, залпом въебал из горла целых полтора глотка водки и, покашляв пару минут, улыбнулся во все свои четыре с половиной зуба, стало окончательно ясно: к нашему многострадальному дому, похрюкивая от предвкушения, уже вовсю приближается очередной пиздец модели «здрасьте, а я к Семенычу»…
В тот день Семеныч неожиданно вернулся с улицы неотпижженым. Это само по себе нехуйово настораживало, а когда он зашёл на кухню, залпом въебал из горла целых полтора глотка водки и, покашляв пару минут, улыбнулся во все свои четыре с половиной зуба, стало окончательно ясно: к нашему многострадальному дому, похрюкивая от предвкушения, уже вовсю приближается очередной пиздец модели «здрасьте, а я к Семенычу»…И точно – в следующую секунду Семеныч растянул свою мегалыбу ещё шире (я её когда на ночь вспоминаю, до сих пор без клеенки спать не ложусь), перегнулся через стол и доверительно прошамкал: «Саныч, ты охуеешь – я через агентство с бабой познакомился! Вечером в гости придет». Я не то чтобы охуел, я блять вместе с котлетой чуть полвилки не откусил и водкой подавился, а этот горбатый меня даже по спине не похлопал. Засвистел какую-то хуйню и приплясом в комнату свою съебался. Казанова блять недобитый.
Я кое-как откашлялся и попытался представить себе, что за самка могла клюнуть на этот оживший кошмар генного инженера. Варианта было всего два: либо у неё должно быть ниибаццо большое и доброе сердце – либо ниибаццо большая и страшная тушка. Вспомнив ещё раз Семенычеву улыбку, я понял, что про вариант с сердцем по-любому придётся забыть: не может же быть, чтобы женщина полностью состояла из сердца, весила пятьсот килограмм и при этом еще могла бы с кем-то знакомиться. Так что не оставалось мне ничего другого, как вслушиваться в Семенычев свист (который пиздец как напоминал брачную песнь обкурившегося ужа) и тихо бояться приближающегося вечера.
Оказалось, зря боялся. Надо было не бояться, а вещи собирать и в лес, к партизанам съебываться. Где-то около семи вечера в прихожей раздался звонок, и буквально через пару секунд два глухих удара в дверь. С потолка посыпалась побелка и всякие пауки, со стены сорвался и недоуменно повис на одном гвозде портрет Товарища Че, даже вечно тарахтящий холодильник в прихожей вдруг пару раз чихнул и замолчал. И только контуженный дедок из соседней квартиры вдруг забыл про свою немоту и завопил про каких-то йобанных Гансов, йобанного старшину и йобанную атаку, но тут раздался ещё один удар и дедок замолчал, а охуевшая дверь, решив что лучше позор чем смерть, сдалась и распахнулась. В проеме на фоне освещенного коридора чернел силуэт. Не, не так: чернел Силуэтище блять.
Постояв без движения секунд пять, гостья тихо пробасила «Ыы, чобля, спите все чтоли…» и вдруг заорала: «Сё-о-ома, тыгдебля-а-а?!». От её крика у меня пиздец как заложило уши и почему-то потемнело в глазах. Сначала я так и подумал: Всё, БС, пиздец - полопались нахуй твои глазки, прощай любимая порнуха; но потом разглядел слабый свет с улицы и понял, что полопались всего лишь лампочки в парадной. А я же темноты и так с детства боюсь, а тут ещё с Этим на расстоянии грамотного рывка… Так бы я наверно и скончался там рано поседевшим зассанцем, если бы из последних сил всё же не нащупал выключатель и не включил свет в прихожей. И тут же пожалел об этом: если бы Колю Валуева скрестить с Ющенко и с рождения кормить чистым протеином пополам с диоксидом, то выросшая лет через тридцать хрень как раз и сошла бы за родственника вечерней гостьи. Только помельче и посимпатичней децл. Незамутненные сознанием глазки гостьи до ахуения быстро адаптировались к переходам «песдец как темно – я ебу как светло» и цепко скрестились где-то в районе моей переносицы. А я, почувствовав резкий позыв ломануться куда-нибудь до ближайшего толчка, вдруг понял, что мои собственные ноги предали меня и совершенно забили хуй на все мои команды типа «Съёбываемся, блять!». Гостья медленно двинулась в мою сторону…
И тут из своей комнаты наконец-таки выпорхнул Семеныч – в хуй пойми из какого музея спижженом костюме в крупную чёрно-белую полоску (на два размера меньше чем надо), все двадцать четыре волоса залакированы «под Гитлера», а лицо густо излеплено клочками газеты на израненной в сражениях с бритвой коже. Семёныч меня опять удивил: вместо того, чтобы обосраццо от открывшегося зрелища, он вдруг включил свою неотразимую лыбу и шагнул к чудищу навстречу, протягивая трясущиеся от нетерпения ручонки. «Саныч, знакомься – это Зина. Зина, знакомься – это Саныч» - гундосо протараторил Семёныч и попытался обнять свою новую подругу, но пальцы его так и не смогли сцепиться – не хватило всего каких-то полметра. «Зина» - пробасила Зина и резким движением схватила мою неосторожно протянутую ладонь. По квартире поплыл отчетливый скрип костей и мое тихое поскуливание. Адским усилием мне все же удалось вызволить свою руку из плена и отбежать на безопасное расстояние, но Зина почему-то не бросилась за мной чтобы добить и съесть, а повернулась к Семенычу и ласково пробасила: «Ну чё, Сёма, показывай, где тут наша комнатабля, гыгы». И, ободряюще улыбнувшись, слегка хлопнула его по плечу.
Семёныч вдруг исчез. Только что он стоял передо мной и счастливо лыбился – и вдруг его уже нет. Только кусочки газеты с ебанутым видом типа «А куда это делось Семенычево еблище?» сиротливо кружась в воздухе, тихо опускаются на пол. А я стою с не менее ебанутым выражением на лице и тоже не могу вкурить: а куда это оно в самом деле делось? На счастье для моей и без того ебанутой психики, Семеныч (который, оказывается, всего лишь отправился в полет на крыльях любви от Зининого шлепка) куда-то там у себя въебался и тихонько заныл, а Зина, не выключая улыбки, с неожиданной быстротой скользнула вслед за ним и захлопнула за собой дверь. Бедный Че от очередной встряски дома все-таки наебнулся на пол и окончательно там затих, боясь привлекать к себе лишнее внимание, а я так и остался стоять посреди коридора, с единственной мыслью в голове: всё-таки Зинина улыбка покруче Семенычевой. Потому что у неё зубов на полтора больше.
Где-то минут через двадцать мои ноги наконец прекратили забастовку, и я мелкими шажками по стеночке пробрался в свою комнату, где и затаился, безрезультатно пытаясь уснуть под скрипы кровати, басовитые вздохи Зины и писклявое поскуливание Семеныча. Ближе к полуночи, когда скрипы стали понемногу переходить в Зинины «Нутычобля», а давление в мочевом пузыре превысило норму раз в пятнадцать, я всё-таки решил предпринять вылазку в туалет. Потихоньку приоткрыв дверь и просунув в коридор голову, я уже собрался выходить, когда дверь в Семенычеву комнату вдруг распахнулась. Оттуда выскочил голый Семёныч и резво поскакал к спасительной двери в подъезд, но из комнаты вдогонку за ним внезапно метнулась Зинина лапища, в которой и скрылись Семенычевы ступни. Причём полностью. Низ Семеныча как-то резко затормозил, тогда как сам Семёныч всё ещё ломился к окну, из-за чего в соответствии со всеми законами физики ебло Семеныча описало нехуйовую такую дугу и с громким треском вонзилось зубами в паркет.
Зинина рука с зажатым в ней Семенычем начала медленно скрываться в комнате, а я вдруг вспомнил все ужастики, которые смотрел в жизни и понял, что снимали их реально ботаники, которые ничего страшного в жизни и не видели. За Семенычем на полу оставались сквозные борозды от ногтей с обломками паркетной плитки, но прервать неторопливое движение наверное не смогли бы и пара БТРов, тянущих Семеныча в другую сторону. Перед тем, как окончательно исчезнуть, Семёныч из последних сил зацепился зубами за порог, но после очередного рывка Зины скрылся внутри комнаты вместе с порогом и затих. И тут из комнаты вышла сама Зина. До этого я реально думал, что дальше охуеть уже не смогу, но как же жестоко я ошибался… Возьмите какую-нибудь бегемотиху, оденьте её в портупею с цепями, обколите виагрой и закройтесь с ней в одном помещении – и вы меня поймёте. Пендосский «Шок и Трепет» по сравнению с этим – обыкновенный «Треск и Шёпот» блять. «Треск и Шептунок» даже.
Это был пиздец, полный и безоговорочный. Даже окно казалось мне охуенным путем к спасению, не смотря ни на четвертый этаж, ни на сваленный внизу строительный мусор – вот только не было у меня времени решётки грызть… А Зина всё ближе… Вот она уже в комнате… Тянет свою лапу ко мне, забившемуся в угол кровати… Я зажмурился, а Зина вдруг сказала: «Бум-м-м бля!» и затихла. Открыв глаза, я почему-то вместо Зины обнаружил перед собой расцарапанного Семеныча, с чугунной сковородкой в руках. А потом и Зинину жопу, которая даже в лежачем положении возвышалась над кроватью чуть ли не на полметра. «Бе-бе-бежим б-б-бля…» - проблеял Семеныч и резво поковылял к выходу, как-то неестественно расставляя ноги. Ясен хуй, уговаривать меня не пришлось, и уже через пару минут я, подгоняемый ревом разъяренного Зверя, вовсю съёбывался в направлении ближайшей подруги – благо жила она напротив.
С утра, когда кошмары прошедшей ночи немного отступили, я всё же решился наведаться домой. Зины уже, слава богу, не было, а разъёбанную ей в хлам обстановку Семеныч потихоньку восстановил. Даже почти без пиздюлей. Точнее почти без переломов. Еще примерно с год я прятался под кровать при любом подозрительном шуме с лестничной площадки, но Зина в нашем доме так больше и не объявилась. Хуле, сковородка походу заговоренная попалась.
А Семеныч так до сих пор при слове «Зина» мертвым притворяется и вонять сцуко начинает… Бывало скажешь скажешь ему что-нибудь вроде: «Семеныч, я вот только что из магаЗИНА…» - и всё, пиздец: зима, не зима – а окна на ночь открывай…
Кагвсигдаваш БС aka Бушш Средний, октябрь 2007 года.
Комиссован
 Мама открыла холодильник. Сверкнула большая никелированная дверная ручка.
Мама открыла холодильник. Сверкнула большая никелированная дверная ручка.- Володенька, обедать будешь? – спросила она, переставляя для чего-то внутри холодильника кастрюли и тарелки.
- Не знаю, мам, - Алексашин застыл в дверях кухни, не решаясь пройти дальше в грязных сапогах, - а что там есть?
- Да вот, сам посмотри, - ответила мать и сама же принялась перечислять содержимое – студень есть, вчерашний правда, картошка есть, котлеты, огурцов малосольных на рынке купила.
Алексашину все это показалось очень аппетитно, но больше хотелось хлеба с маслом.
- Мам, а хлеба нет с маслом?
- Есть конечно. Хлеб в хлебнице, масло вот: - она достала увесистую масленку из толстого запотевшего стекла, внутри которой желтел брусок масла покрытый бусинками воды.
Алексашин повернулся к навесному шкафчику. На полке в плетеной хлебнице чинно лежала большая, обжаренная с боков до румяной корочки, а сверху густо обсыпанная белоснежной мукой паляница. Алексашин сглотнул слюну, так ему захотелось схватить эту паляницу, отломить от нее кусок побольше и жирно, в два пальца, намазав его маслом, тут же съесть, а потом снова отломить и опять намазать, так же – в два пальца. И съесть, но уже медленно, смакуя каждый кусочек.
Но только он протянул к руку, чтобы взять паляницу, как неожиданно мать не своим голосом оглушительно прокричала ему в ухо:
- Рота, пад-ъем!
И все, что казалось таким реальным и осязаемым, рассыпалась в один миг на мелкие осколки, и отраженные в них полсотни желтых круглых плафонов казарменных ламп ослепили глаза, заслонив своим блеском и мать, и холодильник, и такую вкусную, такую желанную паляницу, оставив взамен лишь режущий свет, грохот кирзовых сапог и окрики сержантов.
Тощие бойцы пугаными воробьями высыпали из кроватей и бросились одеваться, спешно натягивая на себя пэша, обертывая вокруг ног портянки, ныряя в сапоги, и уже на ходу застегивая ремни, выбегали строиться на взлетку, разрезающую казарму на две равных части.
Алексашин неловко стащил с себя одеяло, вскочил с кровати и, продолжая еще путать сон с явью, стал торопливо одеваться. Чтобы не быть опять последним, он не стал наворачивать портянки, а просто накинул их на горловины голенищ и протолкнул ступнями внутрь сапог. И все равно опоздал. Взвод уже вытянулся в струнку, когда он суетливо протиснулся в строй на свое третье с начала место.
- Алексашин, ты заканчивай дрочить по утрам, - сделал ему замечание Святошев, впрочем, сказал он это не злобно, скорее по инерции. Утром и сержанты еще не проснулись, хотя и застегнуты на все пуговицы, а зевают - челюсти щелкают. Сонным им придираться лень, даже Святошеву.
После переклички рота, минуя туалет вышла на плац. По утрам туалет солдату не положен: командование, а скорее сами сержанты решили, что оправиться и на улице можно: так быстрее выходит, а что мороз – так на то и армия, чтобы лишения всякие терпеть.
Шел седьмой час утра, но ощущалось это только по кипению жизни внутри казармы, снаружи по-прежнему стояла глубокая, морозная ночь. Рассветает в этих местах не раньше девяти, а потеплеет хорошо, если к апрелю. Темно, однако, не было: вся территория части от КПП до свинарника была равномерно залита желтым светом от фонарей и исполосована лучами нескольких прожекторов, стоявших на крышах казармы, административного корпуса и примыкавшей к нему столовой. Из-за этого освещения и без того унылый вид учебки - высокие редуты снега вдоль прямо расчерченных дорожек, серо-зеленые стены строений, черный квадрат плаца окруженный выцветшими стендами, да обнимающий всю часть высокий забор с колючей проволокой, – окрашивался в тускло-желтый цвет, нагоняя на Алексашина невыносимую, безысходную тоску.
Немного потоптались на плацу, для чего делалось это каждодневное топтание, Алексашин никак не мог взять в толк, да и не хотел. Однако, каждый раз с замиранием ждал, что вот сейчас роту вернут обратно в казарму. Но не было еще такого, чтобы вернули. Наконец, бойцы двинулись к воротам части, переходя на легкий бег и постепенно ускоряя темп так, что к забору зоны достигали уже той скорости, когда для спортивных результатов еще слишком медленно, а для обычной зарядки уже слишком быстро.
Бежали в колонне по трое. Алексашин бежал посреди тройки, слева от него сосредоточенно пыхтел Зданович, отмахиваясь огромными ручищами и при выдохе смешно складывая губы трубочкой. Справа бежал татарин Юмаев, его сосед по кровати, и деливший с ним прикроватную тумбочку.
Алексашин, никогда не любивший никаких физических нагрузок, а бег особенно, уже давно сбил дыхание и начинал потихоньку сдавать, сбавляя ритм. Юмаев заметил это и злобно прошипел на выдохе:
- Алексашин бежи, сука!
- Дыхалки не хватает! – жалобно ответил он.
- Бежи я сказал, а то опять утками посадят. У КПП передышка будет.
Алексашин выровнял темп, стараясь дышать размеренно, с интервалами. Через триста метров рота выбежала к воротам тюремного КПП. Юмаев оказался прав: сержанты перевели колонну сперва на шаг, а затем остановили. Поступила команда оправиться. Тяжело дыша, бойцы облепили сугробы.
После этой небольшой передышки, бег продолжился. Бежали, как и всегда, сперва до шоссе, потом сворачивали на дорогу ведущей к расконвойке, и пробегая ее, снова выходили на периметр зоны, оставляя его по левую руку. Всего получалось пробежать километров пять. Вроде и не так много, даже для Алексашина, но к концу кросса, метров за триста, а если случался залет, то и за полкилометра до ворот части, роту часто сажали на корточки и заставляли двигать дальше «по-утиному», сцепив руки за шеей. И вот этого испытания Алексашину никогда не удавалось пройти до конца: преодолев метров тридцать, он не выдерживал и заваливался на бок, выпадая из строя. И тогда сержанты поворачивали роту обратно и заставляли идти в полном приседе заново. Святошев лично пинками, порой очень болезненными, подгонял Алексашина, который снова, но уже через десять метров падал. В третий раз еще ни разу не поворачивали, но Святошев все время грозился, что как-нибудь заставит их взвод скакать целый день, пока Алексашин «Не соблаговолит пройти как все нормальные воины». После такой зарядки Алексашину, у которого перед глазами плавали круги, а ноги становились ватными, хотелось лечь в кровать и лежать целые сутки, ничего не делая, никуда не вставая, отвлекаясь только на еду. Алексашин эту зарядку про себя называл разрядкой.
Сегодня сажать не стали – уж больно холодно было, да и вроде как не за что. Никто не опоздал. Собственно, опаздывали и смешивали строй, - чуть не самое тягчайшее преступление на марше, как уяснил для себя Алексашин, - всегда только он и еще два бойца из второго взвода. И сегодня никто из них не умудрился ввалиться в заднюю тройку, может оттого что бежали не так быстро, а может, еще почему. Свезло, наконец. Обычно, кто-нибудь из них, нет-нет, да и завалится. И тогда роту, как правило, сажали, пускай и мороз.
После пробежки, уже на территории части их отвели на стадион и заставили несколько минут крутить руками и прыгать на месте, – чтобы дежурный офицер, делающий в это время обход, увидел, что их 4-я рота исправно делает утреннюю гимнастику. Как только дежурный завернул за административный корпус, помощник 1-го взвода Михеев повел роту в казарму.
Начиналась ежедневная утренняя экзекуция - утренняя уборка казармы и заправка кроватей. Кровать полагалось заправлять строго по установленным правилам, одеяло постелить полосами к ногам, завернуть под матрас по третьей полосе и обязательно набить кантик, чтобы кровать выглядела как ровно спиленная доска. Этого Алексашину, как и много другого здесь в армии, добиться никак не удавалось. Каждый день он заправлял свою кровать, тщательно, миллиметр за миллиметром вытягивал одеяло, расправлял на нем каждую складку, затем также тщательно набивал подошвой тапка кантик, придавая ему четкую прямоугольную форму. А все равно доски не выходило – или бугорок посреди одеяла оставался, или полоска шла неровно, или кант по длине сбивался и круглился на краях. Обходя каждую кровать, Святошев останавливался возле алексашинской, делал на лице страдальческую гримасу, как при зубной боли, затем, пристально, немигающим взглядом глядел на Алексашина и одним движением руки переворачивал кровать вверх тормашками.
- Алексашин, минуту тебе перестелить, и чтобы как струнка кровать стала. Вопросы есть?
- Никак нет, тащсан! – обреченно отвечал Алексашин и тоскливо оглянувшись на свой взвод, как бы ища в них поддержку, но не находя ее (давно уже не находя), он начинал стелить кровать заново. И снова Святошев ее переворачивал, и снова Алексашин ее застилал, на этот раз, по приказанию Святошева, вместе с Юмаевым, который быстро научился этому недоступному для Алексашина искусству и заправлял свою кровать всегда с легкостью и даже с некоторым изяществом. Юмаев, обычно, отодвигал Алексашина в сторону и делал все сам: так выходило быстрее. Поначалу Святошев после такой помощи снова переворачивал кровать, требуя, чтобы Алексашин заправлял ее сам, но постепенно ему это наскучило, и он ограничивался одним переворачиванием, разрешая дальше застилать Юмаеву. Тот хотя и злился на Алексашина за эту дополнительную нагрузку, шипел на него, пару раз даже болезненно бил его сапогом в голень, но в целом, терпел, понимая, что пока все кровати не будут заправлены, взвод, а значит и вся рота, не сможет пойти на завтрак. И в этот день, после дух неудачных попыток Алексашина, Юмаев сам, не дожидаясь начальства, быстро застелил Алексашину кровать, шепнув ему злобно, что это в последний раз. Алексашин согласно закивал головой. Он не думал, что будет завтра, сегодня одной проблемой стало меньше. Скоро раздалась команда строиться на завтрак.
Рота медленно втянулась в здание столовой, выпуская на морозный воздух клубы густого пара. Первый взвод и сержанты направились прямиком к раздаточной. Оставшиеся дожидались своей очереди в просторной, в четыре окна пристройке, соединявшей проходную с обеденным залом.
Предоставленные самим себе бойцы, рассыпались по холодному помещению. Будто скрепки к магниту, прижались они к едва теплым рыжим батареям, толстыми гусеницами скользившими вдоль стен, выкрашенных на две трети от пола зеленой краской, а выше к потолку просто оштукатуренные.
Курящие задымили заныченными бычками, вставляя их в корпусы авторучек или просто насаживая на иголки, чтобы не обжечь пальцы. Находились и такие, кто немного стесняясь своей роскоши, осторожно, стараясь не проронить ни крошки драгоценного табака, продувал целую гильзу кировского «Беломора», купленного в армейской лавке у КПП. К таким тут же неслось с разных сторон робко-вопросительное: «покурим?».
- Уже курим, - отвечал курильщик, оставляя чинарик, своему корешу или если такого, вдруг не было, первому просильщику, у которого тоже испрашивали разок дернуть.
Алексашину удалось укрепить свой тощий зад на куске теплого чугуна, и сейчас он полусидел, оцепенев в сладкой дреме, смежив веки и втянув шею в воротник шинели.
Курить он толком не начинал и потому просто наслаждался неожиданным отдыхом, стараясь отогнать от себя тоскливые мысли о доме и о еде, а старался думать о чем-нибудь приятном, например, о маме, которую здесь в армии он так неожиданно для самого себя и так сильно полюбил. Полюбил так, как любят дети, обожествляя ее образ, как обожествляют его малыши, не представляющие себе существа важнее и любимее матери. Алексашин, с одной стороны, стеснялся этого своего нового, неожиданно сильного чувства, даже пытался его выжить из себя, доказывая себе, что глупо и некрасиво ему уподобляться маленькому ребенку, так сильно привязываясь к матери, тем более что в гражданской жизни он ее, особенно последние подростковые годы, никак не баловал своей любовью. Но с другой стороны, именно это чувство, эту любовь он берег в себе больше других, именно к нему он обращался в тяжелые моменты своей теперешней военной жизни, черпая из него духовные силы для противостояния враждебного окружения. В том, что окружение, в какое он теперь попал было враждебное, он нисколько не сомневался. Если еще в первые дни службы, он, как теленок на корову, доверчиво и с надеждой смотрел на офицеров, то сейчас, после трех месяцев службы, понял, что никакому офицеру он со своими переживаниями и страхами не интересен, что помощи ждать здесь не от кого и надеяться он мог, только на самого себя. Была еще, конечно товарищеская поддержка среди солдат одного призыва или с одной области – землячество – но от Алексашина постепенно все отвернулись, и, в конце концов, осталось два-три товарища, с которыми он мог поговорить, что называлось по душам.
Служба, нелегкая с первого дня, все сильнее угнетала его невыносимой тяжестью, своей беспощадной однообразностью, холодом вятской зимы, но, прежде всего, голодом.
Из-за него Алексашин все больше скатывался к тем, кого здесь называют чушками или помойщиками. Недотянув ростом всего сантиметра до двойной порции, вечно голодный, в поисках еды нередко попадался он у окна с грязной посудой за прочесыванием тарелок и подносов, высматривая не съеденную корку хлеба. Дважды его уже ставили перед строем, заставляя поедать целый батон, пока рота с грохотом падала на пол казармы, по команде «вспышка справа!». Вечером, после отбоя, били свои же, скрученными полотенцами, чтобы не оставлять следов.
Уже потом, глухой ночью, Алексашин глухо рыдал, накрывшись подушкой и закусив край простыни, чтобы никто не услышал. Клялся себе сквозь слезы, что в последний раз, что лучше умереть, чем терпеть все это, а на следующее утро, снова рыскал голодным взглядом по чужим тарелкам, по грязной посуде и поварам.
- Браток, плесни чутка больше, - тихим голосом, унизительно улыбаясь, упрашивал он здоровенного мордатого повара в большом грязно белом и таком нелепом на фоне армейского пэша, колпаке.
- Съебался, Алексашин! – повар не глядя швырял на железное полотно раздаточной тарелку каши и зачерпывал следующую.
- Алексашин, сука блять, ты че опять палишься?! – шипели сзади и пинали его курсанты выталкивая из прохода.
Он брел дальше, высоко подняв большую, шишковатую голову на тонкой шее, нелепо озираясь и оглядываясь назад в тщетной надежде, что там передумают, позовут и дольют ему полчерпака каши.
Затем, все повторялось у хлеборезки. Склонившись в половину, влезал головой в окно и бубнил, просительно-унижающе:
- Рустэм, отрежь горбуху, я тебе папирос найду.
- Иди в хуй, сука! Я не курю, - зло огрызался дагестанец Рустэм и выталкивал его из хлеборезки.
Оставшиеся у Алексашина товарищи, точнее те, кто не до конца отвернулся от него, иногда подбадривали его.
- Будет у нас Володька весна. Отожремся тогда, - говорил ему краснодарец Мордашев.
- Будет Леха,- уныло соглашался Алексашин. Сам он в душе давно перестал верить в весну.
- Ты главное, по помойкам не шныряй и не крысятничай.
- Я не крысятничаю.
- Но ведь шныряешь?
- Это да. Леха, я хавать все время хочу. И домой тянет.
- Все хавать хотят, и домой всех тянет.
- Откосить бы, - мечтательно тянул Алексашин и уходил в себя.
Он, с тех пор как двое солдат из пятой роты вскрыли себе вены на руках через ночь после прибытия, не переставая думал об этом. Резать вены ему не хотелось. Страшно было: вдруг не спасут? Те двое полночи пролежали, пока их дневальный не заметил. Нет, с болью, с увечьями ему не хотелось, а вот чтобы так, по болезни, без боли. Так ведь не брали его болезни.
В декабре еще, через две недели как приехал он из Калуги в Кирово-Чепецк, и как завладела им тоска от здешних мест, решил Алексашин заболеть во что бы то ни стало.
Дождавшись, когда их взвод заступил в наряд, он напросился караульным на склады и на пару с Терехиным, ночью разделся до пояса, и извалялся в снегу на сорокаградусном морозе.
На следующий день оба заболели. Но так, вяло как-то: температура едва дотягивалась до 37-ми, тогда как в армии высокой она считалась с 37.6. Им даже постельный режим не выписали. Так и кашляли в строю.
Через три дня, у Алексашина все прошло, а Терехину в одну ночь поплошело, приполз он к дежурному, начал на боли жаловаться. Увезли в больничку, оказалось: пневмония. Месяцем позже он вернулся на автобусе, комиссоваться. Довольный, отожратый на больничном пайке. Алексашин как раз стоял дневальным на тумбочке и смотрел, как Терехин с мамой неспешно собирает свои вещи, гладит парадку, о чем-то почти вальяжно говорит с командиром роты Гомозовым, которого в роте все, конечно, звали Тормозовым.
- Эй, Терехин, - улучив момент, позвал его Алексашин, - ты скажи, как это у тебя так случилось?
- Не знаю, браток. Вот так. Повезло короче.
- А почему комиссовали?
- А у меня одно легкое не дышит, кажется так. Инвалидность будут оформлять!
- Так ты что же, на одном теперь будешь?
- Ну и хуле? Мне в противогазе вокруг зоны больше не бегать.
- Это верно, - Алексашину нестерпимо стало жаль себя, у которого оба легких дышали и потому он должен был стоять на нелепом постаменте и как попка дурак орать на всю казарму: «дежурный по роте на выход!» – только лишь появится в дверях кто-нибудь из офицеров или: «рота, смирно!» – если заглянет вдруг комбат или еще кто чином повыше.
Убаюканный теплом от трубы, Алексашин почти спал, когда в дверях повисла белобрысая голова младшего сержанта Святошева, крикнувшего сонным бойцам:
- Третий взвод строиться!
Гремя сапогами по мерзлой плитке, курсанты построились в две шеренги. Святошев, по своему обыкновению, принялся шутить. Шутил он своеобразно и в первую очередь над Алексашиным и Климовым, щуплым парнишкой из Сыктывкара.
- Климов, покажи ящерицу, - скомандовал Святошев.
- Товарищ младший сержант… - начал было Климов, но Святошев перебил его:
- Климов, два шага из строя!
Солдат шагнул вперед. Святошев подошел ближе, ростом он чуть не вдвое был выше Климова.
- Ящерицу пока-зать!
Климов открыл рот, показал язык и стал им водить из стороны в сторону. Святошев, откинув голову назад, громко, заразительно засмеялся. По шеренгам тоже пролетели улыбки, хотя ничего смешного Климов не делал, но здесь все было не так, как на гражданке: еда не такая, смех не над тем.
- Ящерица, нале – во!
Климов, не переставая шевелить языком, повернулся налево. Затем, следуя приказанием сержанта, сделал поворот кругом, прошелся взад-вперед вдоль строя бойцов.
- Молодец, упал в строй – Святошев теперь посмотрел на Алексашина, будто вспоминая что-то.
- Тащ сан, - не выдержал, первым заговорил Алексашин, панически боявшийся Святошева, как, впрочем, и всякого старшего по званию.
- Что тащсан, - Святошев шагнул к курсанту, - ты меня звал, Алексашин?
- Никак нет, тащ сан.
- Кудряшов!
- Я!
- Алексашин звал меня?
- Так точно товарищ младший сержант!
- Боронин! – продолжал Святошев.
- Я!
- Курсант Алексашин звал меня?
- Так точно товарищ младший сержант!
- Вот, - довольный Святошев повернулся к бледному Алексашину, - ты меня за нос водишь, получается?
- Никак нет тащ сан.
- Не слышу.
- Никак нет та-рищ сан!
- После завтрака принесешь мне три папиросы. Вопросы есть?
- Никак нет, тащ сан!
Святошев заложил руки за спину, картинно расставил ноги и скомандовал:
- Взвод, нале-во! В столовую, в колонну по одному, шагом марш!
После завтрака роту погнали на плац – развод на занятия. Сегодня они должны были метать боевые гранаты, а перед тем, учить азбуку Морзе и чистить ни разу еще не стрелявшее оружие. Чистить его полагалось через день, и непонятно было для чего, если они из него ни разу не палили, и неизвестно когда будут и будут ли?
Уже три почти месяца здесь, а пока только и делали из военных дел, что разбирали-собирали автоматы, бегали в касках, да учили морзянку. Тоже, тот еще труд. Казалось бы - сидишь в теплом классе, да поешь, хором растягивая или наоборот, обрубая слога: « И тооль-коо оод-наа! Две не-хоо-роо-шоо! Три те-бе маа-лоо!».
Да вот так попоешь с полчасика, и такая дрема набрасывается, что хоть кусай себя за локоть, а все равно, нет-нет, да и клюнешь носом, и тут же Святошев тебя длиннющей антенной по плечу перетянет. А то и «проверку связи» устроит. Это такая игра. Говорит, сам ее изобрел, может и не врет, с него станется.
Весь взвод за руки сцепляется друг с другом. Крайние бойцы за оголенные провода берутся, подсоединенные к двум телефонам ТА-57. Один крутит ручку у динамо машины первого телефона, ток через весь взвод летит на тот конец. И крайний курсант должен поднять трубку на том аппарате и сказать:
- Дежурный радист слушает!
- Проверка связи! – отвечает тот, и еще раз крутит ручку и опять ток летит по курсантам. Кто поздоровей или к боли нечувствительный, как Зданович – мордоворот из Кемерово, - тому только ладошки пощиплет. А Алексашин всегда подпрыгивал, дергался как марионетка. И не от боли сколько, а больше от неожиданности и от страха – с детства боялся он электричества.
После уроков по спецподготовке – так назывались их «пения» и перед чисткой оружия Алексашин тщетно пытался найти папиросы, но никто не давал.
- Братцы, он же меня побьет! – умолял Алексашин, давя на жалость.
- А так нас побьет, - отвечали ему.
Святошев скоро поинтересовался, где папиросы.
- Нету ни у кого, тащ сан! – развел руками Алексашин и повесил голову.
- Нету? – недоверчиво переспросил Святошев и позвал Гаврикова, шустрого паренька из их взвода: - папиросу мне добудь, даю тебе три минуты!
- Есть! – рявкнул Гавриков и бросился на поиски.
Через минуту он вернулся сжимая в варежке три беломорины. Святошев взял папиросы, одну закурил, две других положил в портсигар. Выкурив половину, он протянул бычок Гаврикову.
- Курсант Гавриков, объявляю Вам личную благодарность и разрешаю ни хуя не делать до обеда.
- Рад стараться товарищ младший сержант! Разрешите идти?
- Иди.
Гавриков убежал в казарму, Святошев подошел к Алексашину и взяв его за ремень тихо сказал:
- Алексашин, почему ты меня все время дрочишь?
- Я не…
- Молчать сука! Я тебя спрашиваю, почему ты, душара, все время херишь мои приказы? Ты решил, что меня можно бросать через хуй? На дурочку все свести?!
- Никак нет таз сан, я не…
- Вечером после отбоя подойдешь ко мне. А сейчас съебался чистить снег.
Алексашин поплелся за лопатой, тоскливо думая о своем скором будущем. Этот Святошев не возлюбил его сразу. Когда Алексашин только из грузовика вылезал, тот, подошел к нему и спросил, из какой части он прибыл. Алексашин как назло забыл номер, запутался, начал что-то мямлить.
- Ты что боец, не знаешь, откуда ты прибыл? – спросил удивленно Святошев. И в ту же ночь заставил Алексашина тысячу раз написать в тетради номер своей части.
С тех пор он постоянно к нему придирался, иногда по мелочам, иногда, даже как бы по-дружески, но после помоечных залетов Алексашина, Святошев просто озверел, не проходило и дня, чтобы он не придумал ему новую пытку. И вот очередной залет, и снова будут бить, или в «отпуск» отправит или еще «очко» драить до полуночи.
После обеда, когда Алексашин предавался своим грустным мыслям о предстоящем вечере и неловко счищал снег с огромного плаца, прозвучала команда строиться.
На середину плаца вышел комроты майор Гомозов и объявил о сегодняшнем метании боевых гранат.
В роте прошло заметное оживление: изнывающая однообразность строевой подготовки и ежедневная уборка территории всем настолько набило оскомину, что малейшее отклонение от установившегося распорядка, походило чуть не на приключение.
В сопровождении лейтенанта Якушева четыре бойца ушли получать ящики с гранатами, а остальные двинулись к огневому рубежу, оборудованному сразу за складами.
Гомозов, как и прошлый раз, когда рота метала учебные гранаты, принялся объяснять, по своему обыкновению бубня в нос что-то заумное, никакого отношения к броску Ф-1 не имеющее. Бойцы, незаметно переминаясь с ноги на ногу, слушали. Наконец, Гомозов устал, и вконец запутавшись в собственных выкладках, беспомощно взглянул на командира первого взвода капитана Дерягина и замолчал. Дерягин поправил портупею коротко напомнил воякам для чего нужна граната оборонительного действия Ф-1, из чего она состоит и как ее следует метать. Потом объявил порядок метания. Как всегда, первым бросал первый взвод, затем второй, последним третий. В ожидании гранат, бойцы отрабатывали движения по траншеям. То есть бегали по узким проходам, в изобилии отрытыми здесь прошлыми призывами.
Принесли ящики с гранатами. Откидались первый и второй взвода. Их третий все это время, как белки в колесе, бегал по глубоким окопам. Наконец, подошла их очередь и курсанты, вытянувшись в окопе, один за другим побежал к огневому рубежу.
Алексашин, который в школе уроки НВП прогуливал, здесь тоже не прислушивался к объяснению офицеров, поглощенный своими тревогами и общей отупляющей усталостью. Как-нибудь он ее кинет. Учебную же кинул, кинет и эту. Какая-то тревожная мысль вертелась в его голове, но что именно это была за мысль он понять не мог, а доискиваться до нее, сосредотачиваться, Алексашин уже не мог, до того он уже устал к середине этого дня, причем не несколько физически, сколько морально. Особенно же его тяготил предстоящий вечер с непременными побоями.
- Алексашин! – скомандовал Святошев и пинком подтолкнул его вперед. Алексашин пробежал два поворота и вылез, цепляясь за бруствер на позицию. За высоким, обитым железом щитом сидел майор Гомозов перед ящиком гранат. Рядом стоял командир взвода лейтенант Якушев. Он вложил Алексашину в правую руку круглую увесистую бочку Ф-1.
Алексашин, зачем-то покрутил ее в руке, недоуменно соображая.
- Что Вы делаете, воин? – сморщился Гомозов и велел бежать на рубеж.
Алексашин, в сопровождении Якушева побежал к следующему щиту.
- Значит так, Алексашин, в правой руке лимонка, левой дергаешь чеку, бросаешь что есть силы вперед и прячешься вот за этот щит, ясно?
- Ясно тащ летенант,- неуверенно ответил он, и хотел сказать вслед что-то важное, что вертелось у него в голове, и никак не хотелось собираться в ясную мысль, но растерялся, ибо так и не знал, что именно он хотел сказать. Якушев отошел уже за щит и шипел оттуда:
- Алексашин, черт такой, дергай чеку и бросай!
Алексашин послушно выдернул кольцо и замер с отведенной рукой. Только теперь до него дошло, что именно вертелось у него в голове, что он хотел сказать: он не сможет швырнуть лимонку на безопасное расстояние правой рукой. Он был левшой, и именно это он и хотел сказать Якушеву, да не сказал. И теперь он стоял, боясь швырнуть лимонку слишком близко, и медлил чего-то ожидая.
- Алексашин! Что ты творишь Алексашин? - повторял бледный Якушев, - бросай ее на хер скорее.
- Я не могу правой, тащ летенант, - Алексашин разжал ладонь и начал перекладывать лимонку в левую руку, тут Якушев, совсем теряя самообладание закричал в голос:
- Бросай ее на хуй, мудак!
Алексашин вздрогнул, лимонка выпала на снег, он наклонился, чтобы ее подобрать, в этот момент Якушев прыгнул в его сторону и, сбивая его с ног, повалил за спасительный щит.
Раздался взрыв. В ногах у Алексашина полыхнуло резкой болью, как будто от сильного электрического разряда. В глазах все поплыло. Он с трудом смог различать, что происходило вокруг. Ближе всего к нему было какое-то неестественное, будто из воска вылепленное лицо Якушева, в ушах гудело, как во встревоженном улье. Краем зрения он видел, как из окопа бежали солдаты, впереди них, неряшливо, по-бабьи вихляя тазом, семенил Гомозов.
Алексашину становилось все труднее фокусировать взгляд, он медленно проваливался в черную зияющую пустоту, сдавленный сверху ставшим в раз неподъемно тяжелым телом лейтенанта. В голове загнанным зверем металась пульсирующая боль, но сквозь нее, сквозь страх, сквозь приливающий жар, шедший обжигающей волной от ног по всему телу, он успел ухватить тонкой ниткою спасительную мысль: комиссован! Теперь он непременно будет комиссован и никакой Святошев не отправит его за папиросами. От этой мысли ему было не так больно, и на бледном лице вдруг выступила счастливая улыбка.
Курсант Алексашин после трех месяцев проведенных в военном госпитале был комиссован. Майор Гомозов, учитывая безупречный послужной список и тяжелые семейные обстоятельства был приговорен военным трибуналом к трем годам лишения свободы. Лейтенант Якушев погиб.
Автор: Khristoff
Ссылки по теме:
- В Подольске появился гурман, который предпочитает на ужин ежей
- Безбилетник избил добросовестного пассажира за замечание
- Великолепная операторская работа
- 4 вещи, которые знает каждый, у кого есть кот
- "Надо поправить": клиент вносит правки
Метки: реально смешные истории
Новости партнёров